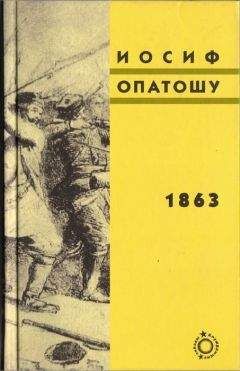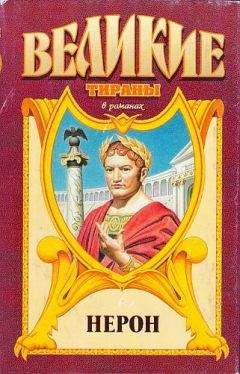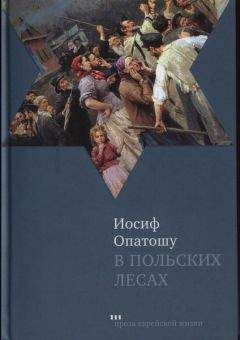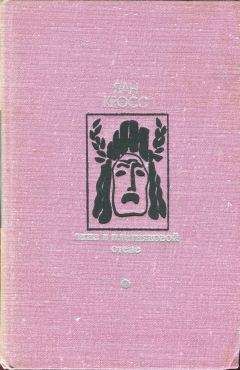Михаил Иманов - Гай Иудейский.Калигула
Я знал — не только чувствовал, но знал, — что дни их, Эннии и Макрона, сочтены. И не в том дело, что убийцы (а ведь они оба были убийцами) не могут быть друзьями. Ни друзьями, ни соратниками; только у таких же убийц. Дело в том, что я просто не хотел смотреть на них. Не хотел их видеть, и больше ничего. Но вынужден был смотреть и видеть их, как бы далеко они ни были, как бы далеко я ни услал их. Я обречен видеть их, по крайней мере, пока они живы, потому что они видят меня тем самым Гаем, подобным многим, подобным всем остальным, подобным им самим. Они и тогда достойны смерти, если будут видеть меня только и единственно императором. Все равно для них я стал императором, а не был им всегда. Никогда не рождался, а все время был. Мне уже невыносимо было быть ставшим императором. Впрочем, видевших меня другим было не так мало. Некоторых боги, правда, благоразумно отправили в подземное царство. Но остальных оставили мне — как равному с ними.
* * *Моя бабка Антония просила свидания со мной наедине. Макрон доложил мне об этом. Я спросил:
— Кто она такая?
Он отвечал, что моя бабка, мать моего отца, Германика.
— Германика? — удивился я (вот тогда же я почувствовал в себе явственные признаки неподдельного удивления). — Но разве он был моим отцом?
Макрон, по своему обыкновению, не знал, что отвечать, и, конечно же, стоял, почтительно опустив глаза. Я отпустил его едва заметным движением руки.
Но Антония, как я и предполагал, была настойчивой. Макрон, правда, теперь боялся докладывать мне о ней. А я ждал, и это было приятным для меня занятием в течение нескольких дней. Наконец случайно — думаю, что все же случайно, — ее прошение оказалось на моем столе. Она просила все того же — свидания наедине.
— Ты видел ее? — спросил я у Макрона.
И когда он ответил: «Да», спросил:
— И как ты ее находишь? Кажется, она уже старая? — Руками я совершил в воздухе округлые движения, чтобы он лучше понял, о чем я спрашиваю.
Он нерешительно взглянул на меня, но на этот раз попытался ответить:
— Она еще вполне красивая женщина.
Ну да, конечно, при всех колебаниях ситуации все же было благоразумнее всего назвать бабку императора красивой.
Я сказал.
— Если так, это меняет дело. Если так настойчиво требует свидания наедине, то при красоте ее настойчивость имеет свой смысл.
Макрон посмотрел на меня недоверчиво, но я не шутил: ни перед ним, ни перед собой. Уверен, я не имел плана, но желание возникло само собой, внезапно.
То, что она моя бабка, было во мне. Не совсем слабым чувством. Или почти и не чувством, а лишь воспоминанием о нем; не так, как когда-то, когда она считалась моей бабкой. Впрочем, я подумал о ней как о родственнице только тогда, когда боль унижения отразилась на ее лице: я не принял ее, как она просила, — рядом стоял Макрон. Но не просто посторонний, а префект Макрон, лицо официальное. То, о чем она собиралась говорить со мной, не могло быть высказано. И конечно же, она не решилась бы попросить Макрона удалиться.
Я не узнал ее, мне показалось, что я вижу ее впервые. Не знаю, говорил ли Макрон правду, но я и без него видел, что она красива. Я почувствовал, как вожделение поднимается во мне. Это принесло мне радость, потому что вожделения, что называется, в чистом виде я не чувствовал давно. Друзилла — это другое. А так — нет, не чувствовал, а всегда заставлял себя.
Антония молчала и смотрела на меня, не отводя глаз. Как будто только для того пришла, чтобы стоять, молчать, смотреть. И для этого только так упорно добивалась встречи со мной.
— Чего ты хочешь от меня, женщина? — спросил я.
Но она продолжала молчать. Ее грудь, ноги, ее увядшее лицо — нет, тут было что-то другое, большее, чем просто женщина, и вожделение было направлено на это другое.
Я велел Макрону поднести светильник, подошел к Антонии, взял ее руку в свою и повел. В комнату, где больше половины площади занимало мягкое упругое ложе; окна по моему приказу были там заложены камнем и занавешены тяжелыми шторами кроваво-красного цвета, и стояло там множество светильников. Им предназначалось гореть всегда, и специально назначенные Макроном люди — сам я их никогда не видел, потому что никому не дозволялось входить сюда, — следили за этим.
Я подвел ее к краю ложа, развязал пояс и тут же раздел ее всю. Макрон стоял за моей спиной и высоко над головой держал светильник. Я только раз, мельком, взглянул на него: рука была напряжена, а пламя светильника дрожало.
Не могу сказать, как она была хороша. Не могу вспомнить ее изъянов. Она вся была изъян. Ее тело не было старым, оно было другим. И хотя она стояла передо мной обнаженная и вожделения во мне было, кажется, больше, чем я мог выдержать, я не смотрел на ее тело, а смотрел в ее глаза так же неотрывно, как и она смотрела в мои. Не красота и не страсть, а что-то сильнее красоты и страсти было в них.
Хочется сказать, что это было бессмертие. Так хочется, что я уже говорю это. Но не бессмертие это было, а жизнь, похожая на бессмертие. Вся ее жизнь, вся ее красота, все ее вожделение, страсть… и все остальное, что я не могу назвать, все, что она видела, все, что понимала, и все, что не успела понять…
Тело уже не имело значения, а все было в глазах. Не в самих глазах, а в том, что они отражали. Если бы в глазах, то я стал бы их целовать, раздвинул бы веки губами и провел бы кончиком языка по глазному яблоку. Но это тоже было тело, а в теле не было ничего.
Я трогал ладонями ее плечи, грудь, живот. Я делал это по привычке и еще потому, что вожделение мое желало этого. Но я не смог. Я страшился ее тела, как яда. Не могу точно объяснить, но я боялся заразиться смертью. Бессмертие было в ней, в Антонии, но как-то по-другому. А тело было готово к смерти.
Не знаю, может быть, я тогда только чувствовал, но не понимал. Но — побоялся и не смог.
— Возьми ее, — сказал я Макрону.
— Да, император, — отозвался он, но, конечно, не понял.
Я надавил на плечи Антонии, и она села. Я легко оттолкнул ее плечи от себя, и она легла. Лежала на самом краю, вытянув руки вдоль тела. Руке у края ложа не было места, и она прижимала ее к себе, подоткнув пальцы под бедро.
— Возьми ее, Макрон. — Я наконец обернулся к нему. — Раздевайся.
Он не опустил руку со светильником, но другой рукой стал отстегивать пояс и никак не мог отстегнуть. Я ждал. Наконец он справился, но с такой силой дернул ремень, что он выскользнул из пальцев и упал на пол. Между мной и им. С металлическим лязгом, потому что короткий меч был тяжел. Я отбросил его ногой в сторону. От резкости моего движения Макрон едва не выронил светильник. Я успел подхватить его. Поднял над головой и держал в вытянутой руке неподвижно.
Ему было стыдно. Он стоял боком ко мне, смотрел в пол, но изгиб его тела был почтительным, ведь он стоял перед императором. Продлевать его стыд было мне приятно, но нетерпение торопило меня, и я крикнул:
— Ложись!
Прозвучало как боевая команда, и мне показалось, что он бросится на пол, исполняя ее. Но трудно было упасть, не задев меня или край ложа. И он, уже дернувшись, понял это. И упал на Антонию. Впрочем, придерживаясь руками, чтобы не раздавить ее.
Спина его была покрыта веснушками и поросла рыжими волосами, прямыми и жесткими, как щетина. Я подумал, что если неосторожно тронуть спину, то можно уколоть руку до крови. И еще: когда тело истлеет, то волосы еще очень долго, может быть бесконечно, будут оставаться все такими же прямыми и жесткими. Дальше я должен был бы поразмышлять о бессмертии, но ни место, ни время, ни его ерзающая вперед и назад спина не располагали к долгим и серьезным размышлениям.
Мне даже сделалось досадно, что он так просто и откровенно ерзал передо мной и так быстро исполнил то, что я приказал. Он работал, как какая-нибудь стенобитная машина. Мне хотелось крикнуть, заставить его прекратить, и я едва не крикнул. Но тут произошли крик и движение — и мой крик сначала застрял в горле, а потом исчез совсем.
Кричала Антония — не от страсти, боли или насилия, но от всего разом: и от первого, и от второго, и от насилия тоже. А движение — одновременно с криком — было содроганием ее стопы. Не дрожанием просто, не подрагиванием, но именно содроганием, будто что-то внутри билось, как в клетке, стремясь вырваться наружу. Что? — я не в силах определить, но мне и сейчас кажется, что и крик вырвался не из горла Антонии, но оттуда.
Я пригнул колени и ухватился за ее стопу, не опуская светильника, который я продолжал держать высоко над головой; рука, державшая его, окаменела. Внутри стопы билось, и сама она содрогалась, и рука моя, будто заразившись от стопы, содрогалась тоже, то есть от собственного моего внутреннего биения. Я силился разжать пальцы, но не мог. Ерзающей спины Макрона я уже не видел, но только обонял и слышал, как он старался: тяжелый запах и частое, с присвистом, дыхание. Я понял, что умру, и смерть оказалась страшнее, чем я мог себе представить. Я хотел закричать, но только широко раскрыл рот. Так широко, что что-то хрустнуло в челюстях и как будто замкнуло: рот остался открытым. Но не это было страшнее всего, а то, что он, уже сам по себе, открывался все шире и шире, и я уже ощущал, даже сквозь невыносимую боль, как он выворачивает меня наизнанку, внутренностями наружу.