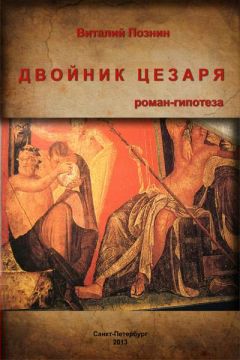Петр Краснов - Цесаревна
Это было, пожалуй, самое мучительное и обидное. Она чувствовала себя выше, умнее, образованнее и красивее всех этих вдруг снова появившихся с Долгоруковыми жеманных боярышень — ею пренебрегали — шепотом говорили о ней и о ее матери нечто такое скверное, что ее щеки пылали и глаза горели от негодования…
В царствование Анны Иоанновны о ней как-то позабыли. Ее старались держать подальше от двора. Она поселилась в Александровской слободе. Ее окружали слободские девушки — народ простой, рослый и красивый. Были шумные весенние хороводы, качели, деревенские танцы и песни, долгие зимние посиделки с пряниками и жамками, с вином, пивом и медом. Простые люди, окружавшие ее, ей нравились. Они благоговели перед памятью о ее отце, они, не скрывая своих чувств, обожали ее. В ней текла кровь Петра Великого, и родила ее солдатская женка. Темперамент в ней сказывался. Были страстные поцелуи в кустах сирени, когда сладостно и томно пели соловьи в высоких березах, была порывистая, сильная, горячая, грубая страсть, отвергнуть которую не хватило сил: кровь заговорила. Воспитанная французами, на французской литературе, она «бросила чепец через мельницу». Страшен был первый шаг, но когда он был сделан — выбирать было нечего, она отказалась и думать о браке. Вечная цесаревна! Высокая, красивая, с обаятельной улыбкой на губах, она ходила по избам крестьян Александровской слободы, в Петербурге бывала в солдатских слободах, крестила солдатских детей и кумой гуляла на простых незатейливых погулянках.
Ей льстило и нравилось, когда ей говорили: «В тебе течет кровь Петра Великого!.. Ты искра Петра!..» Ее обожали солдаты, духовенство ценило ее за простоту и доброту… Никто не мог ее осудить — слишком обаятелен был ее образ и прекрасны все ее поступки.
Она увлеклась Шубиным. Ей казалось — надолго. За неосторожные слова Шубина пытали и сослали. Под пыткой он не оговорил ее. От этого еще дороже он стал ей. Ее сердце было переполнено любовью и признательностью к нему. Она серьезно готовилась поступить в монастырь — вместо того попала в объятия Разумовского.
Она увидела в этом казаке такую необычайную верность, страсть и любовь, что почувствовала, что в нем нашла господина в любви и самого верного раба во всем остальном. Этот не продаст и не изменит. Она слушала его рассказы о его детстве и о том, как отец говорил о себе: «Гей, що то за голова, що то за розум!» Она поверила и доверилась «розуму» сына этого казака. Она нашла в нем тихую пристань от своих порывистых увлечений. Вскоре после сладких вьюжных дней на Дудоровой горе она назначила Разумовского управляющим своих имений, сделала его своим гоф-интендантом, осыпала его подарками и позаботилась о всей его семье.
С этого дня она стала называть его — не при людях — Алешей и в письмах писала ему: «Друг мой нелицемерный…»
Казалось, угомонилась, успокоилась ее бурная кровь. Ни о чем другом она не мечтала, как жить в радости, веселье и красоте. Сама красота — она любила красоту во всех ее видах, любила она жить и умела пригоршнями брать радости и наслаждения от жизни. В бурных плаваниях по житейскому морю Алексей Григорьевич Разумовский стал для нее надежным якорем спасения от одолевавших ее временами страстей.
Часть вторая
I
Рита, сбросив на руки солдата епанчу, покрытую дождевой сыростью, быстрыми, мужскими шагами вошла в гостиную. Она остановилась в удивлении. В глубине комнаты, в углу, где стоял небольшой стол палисандрового дерева на круглой тумбе, покрытой резьбой, в креслах против ее отца сидел высокий, статный человек в простом черном кафтане и шелковых панталонах. Он был в гладком белом парике с буклями. От парика чернее и гуще казался широкий дугообразный размах темных бровей. Тихий огонь прекрасных глаз, сиявших на матово-бледном красивом лице, вспыхнул навстречу Рите. Она сейчас же узнала гостя: их прежний постоялец, бывший певчий Алеша Розум, теперь фаворит цесаревны Елизаветы Петровны, ее придворный интендант и богатый владелец многих имений, подаренных ему цесаревной.
Рита смутилась. Она не знала, как теперь себя держать с ним. Тогда… но ведь это было десять лет тому назад, и они тогда были так наивны и молоды… Теперь его положение так круто изменилось… Столько воды утекло!
Разумовский встал ей навстречу, подошел и просто и сердечно протянул ей обе свои красивые, с длинными пальцами руки.
— Не признаете меня, Маргарита Сергеевна, — сказал он, и она услышала милый, глубокий звук его голоса и чуть заметный малороссийский акцент в русских словах. Так много это все ей напомнило.
— Как не узнать, сударь Алексей Григорьевич… Конечно же, сразу, как вошла, так и узнала, и так порадовалась, что вы нас не забыли и в своем возвышении не гнушаетесь нами, простыми солдатами.
— Могу ли я забыть благодеяния вашей семьи в начале жизненной карьеры моей, меня озарившей… Я помню, как вы учили меня… И танцевать… и стихи придумывать… Представьте, ведь пригодилось…
Рита смутилась и покраснела
— Да, вот как, — сказала она, потупив глаза. — По-прежнему поете…
— Увы, Маргарита Сергеевна, совсем больше спивать не могу. Так иногда на бандуре потешу ее императорское высочество, думку ей вполголоса скажу, а чтобы по-настоящему… как бывало у вас… — он махнул рукой. — Говорят: пропил голос, — помолчав, добавил он с веселой улыбкой.
Рита с волнением ожидала, как назовет он ту, о связи с кем и она, — хотя и были у ней от таких слухов уши сережками завешены, — слышала, и боялась, что назовет ее просто, фамильярно, по-панибратски, по-хамски, каким-нибудь уменьшительным простым именем, и успокоилась и даже покраснела от удовольствия, когда услышала, как твердо и уверенно выговорил он полный титул обожаемой ею цесаревны. Она отошла к окну и, стараясь скрыть смущение, стала поправлять цветы.
Разумовский вернулся в кресло и, продолжая разговор, обратился к Ранцеву:
— Да, итак, все строимся, — сказал он. — На мызе Гостилицы пруды копаем, ну — чистые озера!.. А дом — дворец!.. Но главное — это Перово, под Москвой. Ее высочеству угодно было там оранжереи ставить, чтобы свои апельсины и лимоны иметь. Очень они полюбили чай пить с лимоном. Кто-то им сказывать изволил, будто от простого чая, да ежели он к тому еще и крепкий, цвет лица испортить можно. Да, очень там хороший дом ставим… и церковь приукрасили знатно. Уж очень там охота примечательная… И для собак гарно. Сюда примчались, верите ли, всего четыре дня скакали. Не чаяли, что здоровье ее императорского величества столь плохое. Бачили, и писаки цидулки писали из Петербурха, что-де критический женский возраст наступил и переносить-де сие время ее величеству тяжко… Но чтобы полагать, что опасное — никак и в думах того не было.
— Отчего вы остановились в городе, а не во дворце? — спросил Ранцев.
— Помилуй, Сергей Петрович, где же там. Все пере полнено. Герцог Курляндский неотлучно ныне там пребывать изволит, ее высочество, герцогиня Брауншвейгская Анна Леопольдовна, племянница императрицы с мужем и дитем. Все покои заняты… Да притом… Что говорить!.. Чай, и сам знаешь, какое там наше положение.
Разумовский с досадой махнул рукой и замолчал. Ранцев строго посмотрел на него и с суровым блеском глаз сказал:
— Сударь, меня достаточно знаешь. Я не из тех, кто притворной и фальшивой рукой доносы пишет… Я великой скорби о Родине моей полон и с тобой особливо хотел обо всем поговорить. Ты по своему положению многое можешь…
Разумовский перебил его:
— Положение… Хорошо положение… Ось подивиться! Мы три недели здесь и добиться не можем, чтобы государыня императрица ее императорское высочество принять соизволила… Три недели выслушиваем один ответ: недужится, дескать, ее величеству и не может она видеть государыню цесаревну. Что они там уси, посказились?.. Ведь сестры они двоюродные, одного деда внучки!.. Так вишь ты — не хочет…
Старый Ранцев, слушавший с низко опущенной головой, поднял чисто бритое, посеревшее лицо и с глубокой печалью сказал:
— Нельзя ее винить ни в чем… Не в своей она воле. Может, что и думает, а сказать, хотя и самодержица, не смеет. Одолели ее проклятые немцы… Всегда она на людях… Без своего надзора ни на миг ее не оставляют. Войди в ее положение.
Рита быстро повернулась от окна и выпрямилась. Ее голос прозвенел в комнате, глубокий и сильный. В нем послышались затаенное страдание и слезы:
— Батюшка, то все неправда, что не хочет матушка государыня видеть сестрицу свою. Все си дни я была на дежурстве при ее императорском величестве и только одно от нее и слышала: почему-де не приезжает цесаревна… Я хочу… Мне надо ее видеть… Вы слышите, Алексей Григорьевич, ей надо видеть цесаревну. Алексей Григорьевич, ведь судьбы российские решаются…
— Да нешто так плохо, — вставая от стола, сказал Разумовский.