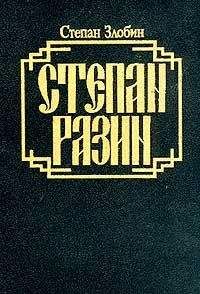Владимир Личутин - Раскол. Роман в 3-х книгах: Книга II. Крестный путь
– Ты пошто, старый черт, ярыжек беспошлинно возишь? И в тот раз, и в энтот! Государеву казну огрызаешь, как мыша сухарь!.. – Нет, не смилостивился за ночь Сила Гагарин и снова крепко обидел Елезара: знать, какие-то свои планы плановал, свои затеи тешил на сердце. Иль великой мзды хотел? Кормление сиротское, много ли живота скопишь, так с проезжих хоть какой рубль содрать на прокорм семье. Так, видно, помышлял воевода?
– Зачем на меня лаешь? – Сокольник задрал голову, сбил на затылок стеганую шапку с собольим околом. – Я что, тебе пятки отбил иль дорогу обсек? Ты не меня топчешь, а самого государя честь роняешь. Сила Гагарин, уймися! Вон и ямщики не спамши и не жрамши, а им назад вертаться. Чего удумал? Пожалей людишек, воевода!
– Последнее мое слово! Оставьте вора, а сами, не мешкая, проваливайте. Нету вам корму и подвод. Сами едва ноги волочим. Наедут, ишь ли, прискочат, как татарове из Крыма, последнее им изо рта вырви да подай. Не послушаетесь, стрелять прикажу!
– Бог тебе судия! Птицу сгубишь, не видать тебе вовек головы! – прощально пригрозил Елезар и поворотил к возам; поглубже натянул башлык, застегнул под бородою верхние нашивки походного кафтана и, будто бы торопясь, полез на коня, наискивая ногою стремя. Конь заходил кругами. Мужики же возроптали, зауросили у возов, скучковались, и как бывает во время всякого труса, сразу сыскался головщик и заводчик, что принялся поджигать, подначивать сокольников и стрельцов: де, вы соромите себя и род свой позорите, де, расскочился, надулся пузырь на грязной луже, а вы уж и в штаны напрудили, де, поучить его надо, робятки, де, неученой человек хуже дворового медведя, ему палец в рот, а он и руку отгрызет. Елезар призамедлился, будто бы застрял ногою в стремени, и, не поворачивая головы к обозникам, слушал их горячку и как бы еще пуще поджигал их норов своей нерешительностью.
– Не пойдем дальше, – кипели подводчики. – Нас дома ждут. Сулились вчера вернуться. Ему-то што! Наел шею, ишь, от сала лопается, кнурише. Всех баб обворовал. Батько-о, ты-то чего? Государев слуга... Запустим борову шило под кожу...
Елезар, не отвечая, отошел за возы, созвал втихую стрелецкого десятника и Любимку:
– Ты баял, парень, что сгодишься мне. Государь тебя без милости не оставит. И я не позабуду твоих услуг. Господь нам свидетель... Так слушай. Тебя помытчики высоко ставят: де, второй такой силы нет на Руси. Вот и выкажи нам силу, но чтоб не до смертного убойства. Упаси Бог лишить кого жизни. Тут за тебя не постою. Сейчас, как поведешь монаха в острог, замешкайся в двери, чтоб нам войти. Потолкайся, салазки загни, чтоб искры из глаз, но шибко не машись, рукастый. Ты понял?
Любимко кивнул головою, не удивился просьбе. В жизнь свою он не чаял страха, хоть и близко видел смерть, и всякие кулачки грудь в грудь были ему в потеху, на игрище...
«Ты не трусь, отче. Я тебя не выдам», – шепнул Любимко и, прихватив инока Зинона за ворот, грубовато подтолкнул его к башне. «Я веком не трушивал. Мне пострадать-то в радость», – ответил старичонко, и взгляд его загорелся. Сзади вскричал Елезар: «Воевода, примай бегуна. У него грамотка от соловецкого игумена». В дверке отодвинулась лубяная волочильная доска, в проруб уставились зоркие щупающие глаза воротника: увиделось ему щекастое круглое лицо деревенского парня, мягко опушенное кудрявой шерстью, и изможденный, какой-то поиспитый хворью монашеский лик. «Не экого же пропадину на заставах имают? – удивился стрелец. – Такой разве что из могилки сбежал, сколь лядащий». Но открывать не заторопился: волоковое оконце задвинули, за воротами установилась короткая тишина, только слышно было, как похрустывал под ногами снег да с натугою, с горловым бульканьем прерывисто дышал возле инок. В Любимкиной груди стеснилось от нетерпения, зажгло под душою.
Он не ведал пока, что его поджидает за стеною, не знал, как себя повести, но от близкого боя зачесались кулаки; он снял меховые рукавки и заткнул за кушак, овчинный треух присбил на затылок, чтобы зорче видеть. Ему вдруг стало жарко. Наконец, с острожной стены велели впустить ярыгу: дверь в башенных воротах приотдалась со скрипом, сначала робко, а потом смелее, нараспах. Да и кого тут стеречься? Любимко подтолкнул Зинона, беглым взглядом захватывая все пристенное пространство с поленницами дров, с высокими снежными забоями, со съезжей избою в глубине и многими воеводскими службами, и с ямским двором справа, где у коновязи топтались закуржавевшие кони. Лишь два бородатых стрельца в червчатых кафтанах дожидались в притворе. Любимко зачем-то обернулся назад, вроде бы за ободрением и поддержкою, но длинный обоз показался странно далеким, а столпившиеся у крайних саней земляки – совсем чужими и равнодушными.
Стрелец потянул инока за рукав сермяги, Зинон заупирался вдруг, с мольбою оглянулся на парня; Любимко поймал затравленный взгляд и очнулся, заполнил собою узкий вход, над головою низкорослого инока ткнул стрельца без замаха в скулу, срубил его под ноги, пустил юшку, и натоптанный снег пред воротами сразу бруснично заалел, покатились кровавые ягоды, прихваченные морозом. На голубом снегу они показались багровыми и веселыми. Пока-то второй стрелец соображал, собираясь звать подмогу, и замахнулся чеканом, но Любимко подножкой ссек воротника, как перестоялую будылину, без усилия заломил за спину руку: стрелец истошно взвыл, и Любимко услышал, как хрустнула в плече, а после тряпошно обвисла рука, будто сняли мужика с крутой палаческой встряски. Любимко опомнился от дикого крика, но не зажалел стрельца, а как бы остыл вдруг и стал зорче.
С верхней площадки боевой башни по кривой деревянной лестнице, по мороженым скрипучим ступеням уже горохом сыпались шаги: первым выскочил воевода с винтованным карабином, нацелился в Любимку. И чего не ожидал парень, инок Зинон выбежал пред его, заслонил тщедушной грудью и, отрывая путвицы с сермяжного ветхого понитка, воззвал: «Стреляй по мне, воевода! Не робей! Пищали и пушки меня неймут!» Сила Гагарин выцелил неслухов, но рука, знать, дрогнула, и он пальнул поверх гилевщиков: еще думалось ему, что только заснилось сие, все случившееся неправда и стоит на миг замгнуть глаза и вновь распахнуть, и ничего худого не найдешь пред собою.
Воевода замедлился, хватаясь за саблю, и тем попридержал стрельцов в дверях башни, не дал ходу. А тем временем уже вбежали подводчики с секирами и помытчики с рогатинами, но все без пищалей, чтобы огневым боем не учинить дурна. Петляя меж поленниц дров, Сила Гагарин ускочил в съезжую избу. Ратовищами секир впятили, затолкали осажденных обратно в башню и заперли дверь на засовы. От съезжей избы уже спешила в помощь воеводе заспавшаяся ночная вахта и вплотную сошлась с помытчиками и тут же отступила пред неожиданной силой, оставив на снегу троих поверженных: одному испробила вольница голову, другому изъязвили лицо, третьему испроломили ребра. Особливо лихие подскочили под окна съезжей избы, где занял оборону Сила Гагарин, и принялись яриться: «Воевода, выходи вон! Выходи вон, болотный князь! Мы твое мясо станем резать и есть сырое, и разговеемся еще до Паски». А распалившийся Зинон, помахивая вересовой ключкой, подбодрял, не утишая голоса: «Так его, детки мои! Бог благословляет вас: режьте да ешьте». И так выпутали мезенские помытчики служивых, что дьяк с подьячими спрятались в темном чулане за ларями, а воевода из повалуши и с повети вместе с тремя сыновьями принялись палить из пищалей; но как скоро поняли, что сполошники не пойдут приступом и угрозы особой нет, то унялись и прекратили стрельбу.
А то и надо было Елезару, государеву спосыланному: от коновязей увели лучших коней, да погрузили на возы несколько рогозных кулей с овсом, да кто побойчее вытянули у кабацкого выжиги под страхом смерти десять четвертей горячего вина, да с тем и кончилось это приключение...
Через две недели Божьим изволом оказались в Москве. Под Коломной инок Зинон вдруг соскочил с розвальней, как бы по нужде, и пропал в частом елушнике. Хвать-похвать, но источился человек, яко дым. Любимко лишь руками развел сокрушенно; и еще долго жалел он, что так внезапно разминулся с соловецким монахом. Ведать бы Любимке, что это был казанский протопоп Иоанн Неронов, за головой которого по всему северу охотились патриаршьи стрельцы.
Сердце Елезара Гаврилова еще долго томилось от дурных предчувствий. Ждал-пождал он грозы, но она обошла стороною самовольника. И поставил сокольник в церкви Николы-путеводителя благодарную свешу, что оградил его русский святой от сыска, многой неправды и от бесчестия.
Глава третья
Не удержали Неронова цепи, и десятого августа пятьдесят пятого года бежал он из Кандалакшского монастыря, из дикой Лопской земли, почитай что из самых аидовых теснин, вместе с двумя работниками. На поморской шняке с промышленниками попал он в Соловецкую обитель к ревнителям веры под крыло архимандрита Илии, а поживши на островах, снабженный всем потребным в дороге, зимним морем отбыл на богомольной ладье в Яренгу, а оттуда с обозом наваги съехал в Архангельский город. В Ненокотском посаде пред острожком он сошел вроде бы по делу, а сам скрылся: двое его работников были взяты сторожей в Холмогорах и заключены в темничку. Лишь кротостью и твердым духом перемог Иоанн дорожное лихо, а пред Москвою, по обыкновению, сбежал с обоза помытчиков и сразу отправился к царскому духовнику Стефану Вонифатьеву, с коим имел запретные ссылки через стрельцов во весь год затвора. Неронов много дней тайно жил в келеице у Благовещенья вместе с Вонифатьевым.