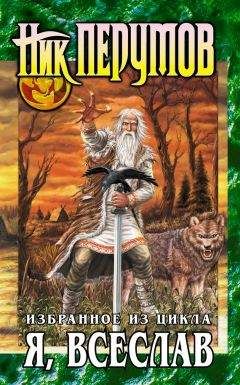Ивлин Во - Елена
— Да, я получил свободу много лет назад благодаря одной доброй и глупой старой женщине, которой понравились мои стихи.
— Ты побывал в Александрии?
— Пока еще нет, но я нашел то, что искал. А ты побывала в Трое, царица?
— Нет... О, нет.
— А в Риме?
— Даже там — нет.
— Но ты нашла то, что искала?
— Я примирилась с тем, что нашла. Ведь это то же самое?
— Для большинства людей — да. Но ты, мне кажется, хотела большего.
— Когда-то. Моя молодость прошла.
— Но твои вопросы — «Когда? Где? Откуда известно?» — это же детские вопросы.
— Вот потому-то твоя религия, Марсий, мне и не подходит. Если я когда-нибудь найду себе наставника в вере, то это будет такой наставник, который обращался бы к детям.
— Увы, это не в духе времени. Мы живем в очень древнем мире. Мы слишком много знаем. Чтобы ответить на твои вопросы, нам надо было бы все забыть и заново родиться.
Дамы, которым не терпелось поговорить с Марсием, стояли поодаль, ожидая, когда закончится его беседа с царственной особой. Елена отпустила его к ним, и ее проводили к носилкам. Минервина осталась, чтобы наслаждаться его дальнейшими откровениями.
В тот вечер Елена послала за Лактанцием и сказала ему:
— Я сегодня послушала этого ученого. Оказалось, что я хорошо его знаю. Он когда-то был рабом моего отца в Британии. С тех пор он изрядно потолстел и прославился. Я не могла понять ни слова из гого, что он говорил. Ведь это все чушь, да?
— Совершенная чушь, царица.
— Я так и думала, просто хотела еще раз убедиться. Скажи мне, Лактанций, вот этот ваш бог — если бы я спросила, когда и где его могли видеть, что бы ты ответил?
— Я бы сказал, что в человеческом образе он умер двести семьдесят восемь лет назад в Палестине, в городе, который теперь называется Элия Капитолина.
— Ну, это, во всяком случае, прямой ответ. А откуда ты это знаешь?
— У нас есть рассказы об этом, записанные очевидцами. Кроме того, существует живая память Церкви. Это знание передается от отца к сыну, есть тайные места, нам известные, — пещера, где он родился, могила, куда было положено его тело, могила Петра. Когда-нибудь они будут известны всем, но сейчас мы храним их тайну. Если ты хочешь посетить эти святые места, ты должна разыскать нужного человека. Он скажет тебе — столько-то шагов к востоку от такого-то камня, на который падает тень на восходе солнца в такой-то день. Это знают всего несколько семей и передают детям. Когда-нибудь, когда Церковь будет свободной и открытой, в таких уловках не будет необходимости.
— Ну, это в высшей степени интересно. Благодарю тебя, Лактанций. Спокойной ночи.
— Спокойной ночи, царица.
— Значит, никто его не видел почти триста лет?
— Некоторые видели. Мученики видят его сейчас.
— А ты?
— Нет.
— Знаешь ли ты кого-нибудь, кто его видел?
— Царица, я прошу меня простить. Есть вещи, о которых можно говорить только со своими.
— Я не должна была об этом спрашивать. Всю жизнь я задаю вопросы, которые оскорбляют чувства верующих. Спокойной ночи, Лактанций.
— Спокойной ночи, царица.
7
ВТОРАЯ ВЕСНА
Прошло четыре года. Криспа вызвали в штаб-квартиру отца, и он с радостью отправился туда. Минервина вышла замуж за честолюбивого молодого бельга и утратила интерес к Высшей Философии. Индийская обезьяна преждевременно состарилась, занемогла, не перенеся холодных речных туманов, и умерла. А Константин, дождавшись наконец подходящего момента, вступил со своим войском в Италию.
Слухи о происшедшем достигли Трира одновременно с курьером из Рима. Жители города были вне себя от волнения — все, кроме Вдовствующей Императрицы: за свою жизнь она не раз получала подобные известия. Одной победой больше, одним императором меньше; еще одна сделка между победителями, скрепленная еще одним браком без любви, — все это она видела снова и снова. Разделение сфер влияния, начало новых интриг и заговоров — все это без конца повторялось, следуя своим причудливым законам.
В Трире был объявлен Миланский эдикт, провозглашавший терпимость к христианам.
— К чему такие восторги? — говорила Елена. — Здесь никто не трогал христиан еще во времена моего мужа. Ты, Лактанций, уже не первую неделю ходишь с таким видом, словно тебя посетило божественное видение. Ты же историк, ты должен мыслить веками!
— Как историк, царица, я считаю, что мы живем в неповторимое время. Это не такое уж примечательное сражение у Мульвинского моста [23] когда-нибудь будет стоять наравне с Фермопилами и Акциумом.
— Я пошутила, Лактанций. Конечно, я знаю, почему это вас всех так волнует. Признаюсь, мне тоже немного не по себе. Особенно из-за этих слухов, будто мой мальчик обратился в христианство. Это правда?
— Не совсем, царица, насколько мы знаем. Но он поручил себя покровительству Христа.
— Ну почему никто никогда не говорит со мной просто и ясно? Неужели я настолько глупа? Я всю жизнь просила только об одном — чтобы на мои простые вопросы мне давали простые ответы, но никогда их не получала. Был в небе крест или нет? Видел его мой сын или нет? Откуда там взялся крест? И если крест был и он его видел, то как он узнал, что этот крест означает? Я не хочу сказать, что много понимаю в знамениях, но, по-моему, это могло предвещать только несчастье. Я прошу лишь об одном — чтобы мне сказали правду. Почему ты не отвечаешь?
Немного помолчав, Лактанций сказал:
— Может быть, потому, что я слишком много читал. Я не тот человек, царица, которому стоит задавать простые вопросы. Ответов на них я не знаю. Есть люди, которые их знают, — они остались на Востоке. Их теперь выпустят из тюрем — тех, кто еще жив. Они смогут тебе ответить, хотя вряд ли так просто и ясно, как тебе хотелось бы. Возможно, все так и было, как говорят. Такие вещи действительно случаются. Каждому из нас временами выпадает возможность избрать истинный путь, и, когда такая возможность предоставляется не простому человеку, а императору, это должно происходить, наверное, особенно эффектно. Мы знаем только одно — император ведет себя так, словно действительно видел знамение. Ты же знаешь, он разрешил Церкви выйти из подполья.
— И встать рядом с Юпитером, Изидой и Венерой Фригийской.
— Христианство — не такая религия, царица. Она не может делить место ни с кем. Став свободной, она победит.
— Тогда, может быть, в гонениях на нее был свой смысл?
— Кровь мучеников — это семя, из которого вырастает Церковь.
— Значит, получается, что вы в любом случае в выигрыше?
— В любом. Нам это обещано, царица.
— Вот всегда этим кончается, Лактанций, когда мы с тобой говорим о религии. Ты никогда не отвечаешь толком на мои вопросы, но у меня часто остается такое чувство, будто ответ был совсем близок и нам надо было всего лишь приложить еще немного усилий, чтобы до него добраться. Сначала все понятно — до какого-то места, и дальше — тоже. Но вот миновать это место никак не получается. Что ж, я уже старая женщина, мне меняться поздно.
Но в эту неповторимую пору весеннего обновления не меняться было невозможно — даже в таком терпимом городе, как Трир, даже такому замкнутому в себе человеку, каким была Елена. Безграничная скука, бравшая начало в мертвом сердце Диоклетиана, пронизавшая и опутавшая паутиной безумия все вокруг, исчезла бесследно, словно кончился некий мор. Из щелей каменной кладки, из вытоптанной догола земли повсюду показывались молодые зеленые ростки с распускавшимися на них листочками. В такое рассветное время, размышлял Лактанций, быть старым — просто счастье. Прожить всю жизнь надеждой, теплившейся вопреки разуму — или, вернее, порожденной только разумом и чувством и никак не вытекающей из жизненного опыта или холодного расчета, — и увидеть, как эта надежда повсюду воплощается в жизнь, приобретая зримые, обыденные формы, — словно вдруг поднимается туман, и мореплаватели видят, что их корабль, без всякой заслуги с их стороны, оказался у входа в тихую, безопасную гавань; уловить проблеск простоты в мире, который казался сложнейшим сплетением превратностей, — все это, размышлял Лактанций, по своему великолепию не уступает сошествию Святого Духа.
Кому, как не ему, следовало бы ясно понимать, что происходит вокруг, — но он, ошеломленный, чувствовал, что не поспевает за временем, ему впервые не хватало слов, и в голову приходили только избитые фразы придворных панегириков. События громоздились одно на другое, нарушив свой привычный неспешный ход. Повсюду следствия не соответствовали причинам, действия — побуждениям, энергия движения неизмеримо превосходила силу исходного толчка. Все было как во сне, когда всадник видит перед собой непреодолимое препятствие, но вдруг у его коня вырастают крылья и он взмывает высоко вверх, или когда человек пытается сдвинуть скалу и вдруг обнаруживает, что она невесома. Лактанций так и не научился обуздывать свои симпатии, как рекомендовали ему критики. Что ему оставалось теперь, как не прекратить попытки проникнуть в тайну происходящего и не начать прославлять его непосредственную причину — далекого, загадочного императора?