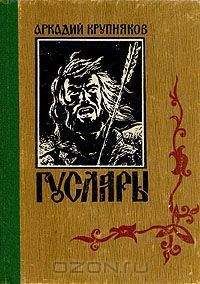Александр Говоров - Последние Каролинги
— Суд божий? — повернулся Эд к Конраду. — Я готов.
Черный граф медленно разлепил губы и сплюнул в сторону.
— Неужели ты думаешь, что мы с тобой будем сражаться? Все-таки, по господнему недосмотру, нас одна с тобою мать родила. Но уж если божий суд, да будет так. Вестник!
— Слушаю, ваша милость.
— Труби поединок. Гармарода здесь?
— Здесь, ваша милость.
Перед строем франков появился, ступая, словно огромный косолапый зверь, человечище, квадратные плечи которого казались нарочно приделанными к плоскому туловищу.
— Я Гармарода, ваша милость, — поклонился он графу, сверкнув медвежьими глазками из дремучей бороды.
— Это мой главный палач, — представил его Конрад. — Он у меня занимается крестьянскими делами, вот пусть по поводу крестьян и вершит божий суд. Кто желает с ним сразиться?
Эд, а с ним Роберт, близнецы, школяры, воины молчали. Принять бой с палачом — значит себя навек обесславить.
И Конрад засмеялся. Ухмыльнулись все его всадники. А из-за спины Эда вышел вперевалочку Винифрид.
— Ваши милости, вот он я… То есть я желаю.
— Малый! — не выдержал даже один из всадников Конрада. — Куда ты? Он же знаешь каков? Быку однажды шею свернул!
Винифрид не отступал. Воины Эда его окружили. Подбежала и Азарика, теряя голову от волнения, однако он ее не узнал.
— Ладно, — сказал Эд графу, — мы принимаем твои условия. Но и ты прими наши — сражаться будут на веревке, вслепую.
Всадники образовали на поляне широкий круг. Противников расставили в трех шагах, соединив веревкой. Туго завязали глаза и роздали мечи. Граф махнул перчаткой, и поединок начался.
Гармарода сразу же пытался опрокинуть лучника весом, но Винифрид, поняв его намерение, уклонился. Палач едва сохранил равновесие, натянутая веревка его удержала. Тогда Гармарода стал усиленно махать мечом, и ему удалось задеть лучника, на лезвии сверкнули капли крови. Азарика позади Роберта опустилась на траву, зажмурилась в тоске.
— Опять кровь! Опять убийство! — Но вскоре по крикам зрителей она поняла, что дело обстоит не худо для Винифрида. Приподнявшись, она увидела, что кровь струей хлещет из шеи Гармароды, а лучник ловко уворачивается от его блистающего меча.
Граф Конрад потребовал, чтобы сражающиеся остановились — добросовестно ли завязаны глаза? Проверили, и поединок возобновился. Теперь палач, чувствуя, что силы иссякают, метался, насколько позволяла веревка. То пригибался, прислушиваясь к шагам противника, то, сделав ложный рывок, обрушивался в другую сторону. Винифрид буквально ускользал из-под его сплющенного носа.
И вдруг зрители ахнули. Гармарода сумел ухватить лучника за рукав и тянул к себе, а Винифрид тщетно пытался этот рукав отрезать мечом. Наконец он оказался в объятиях звероподобного противника, и последнее, что ему удалось, — дать подножку. Оба повалились.
Граф велел трубить отбой, и все кинулись к лежащим. Гармарода был мертв, на его волосатом лице застыло недоумение. Из-под его туши школяры извлекли Винифрида, живого, бледного как известка. Давая подножку, он ухитрился всадить меч в палача.
Торжество было неописуемым! Даже Черный Конрад скривился в улыбке и процедил Эду:
— Это все твоя дружина? Молодцы!
Эд подарил ему всех норманнов, и парижские всадники погнали их, как овец. Граф восхищался старым берсерком:
— Жилы что кремень! Я сделаю из него нового палача.
Стали спускаться под откос, чтобы плыть обратно в Самур.
— А где же Винифрид?
Его нашли лежащим на поляне, где вершился божий суд. Азарика приникла к его чешуйчатой груди и в теплой глубине еле различила биенье. Роберт указал ей — палач тоже успел садануть под броню. Азарика обмерла при виде страшной рваной раны, из которой сочилась кровь. Кинулась искать подорожник, мяту — одна теперь надежда на лекарское искусство Фортуната. Но подошел Эд, покачал головой и объявил, что сам отвезет храбреца к такому лекарю, который мертвых на ноги ставит.
В лодку Роберт и Азарика сели, как привыкли, плечом к плечу. На воде слегка знобило, кружилась голова. Было грустно — за весь день Эд даже не покосился в сторону Азарики. Словно исчезла она, испарилась на тропах эльфов. Обида свербила в носу.
— Озрик! Озрик! — дергал ее за рукав Роберт. — Ну чего ты такой насупленный? Скажи, как ты думаешь — когда вернемся в Самур, будет ли там еще прекрасная Аола?
Глава IV
Оборотень
— Подите прочь, Ринальдо! Эти ваши Ахиллесы и Агамемноны — все они мямли. Вместо того чтобы напасть и убить по-людски, они рассуждают, рассуждают…
Чтец послушно захлопнул книгу, а императрица бросила веретено и встала. Огни высоких светильников затрепетали, вытягивая язычки.
Бывало, франкские принцессы, каждая в своей светелке, коротали дни со знахарями и блаженными. Рикарда завела в Лаонском дворце обычаи своей милой Италии. По вечерам в ее покоях дамы собирались, пряли, слушали чтение книг. Но сегодня императрица была не в себе, бранила слуг, вскакивала и, бренча украшениями, носилась по палате.
— Ах, светлейшая! — возразила герцогиня Суассонская, простодушная толстушка. — Пусть читает, там ведь любовь! У нас-то дома все псарни да облавы, разве что-нибудь возвышенное услышишь?
— Любовь! — усмехнулась Рикарда. — Андромаха над трупом горячо любимого мужа закатывает речь, точно она канцлер Гугон и желает непременно доказать, что графство Парижское должно принадлежать принцу Карлу.
Услышав о графстве Парижском, дамы разахались, что бедняга Конрад Черный так внезапно и безвременно умер, а Рикарда вновь обратилась к чтецу-итальянцу.
— Конечно, любовь любви рознь, — сказала она, разглядывая его мужественный подбородок и сливовые глаза. — Иная из нас сутки бы говорила без перерыва, лишь бы оказаться в положении Андромахи. Ступайте же, любезный, отдохните.
Чтец расправил складки нарядной диаконской рясы и, взяв под мышку фолиант «Троянской войны», вышел.
— О повелительница! — воскликнула герцогиня. — Кому же графство Парижское, как не бедняжке Карлу? Ведь он Каролинг!
Императрица не ответила, уйдя в темноту за колонной, и за нее выступила ее наперсница Берта, бесцветная, из тех, кого называют «белая моль».
— В Париже нужна железная рука. Если там язычники прорвутся, они возьмут все.
— Ах, вы рассуждаете, как мужчины. Кто что возьмет да кто где нужен! От сердца надо судить. Милый, несчастный юноша этот Карл… Он так трогателен!
Рикарда молчала, прислонясь лбом к холодному камню, и опять за нее ответила Берта:
— Принцу ведь и так пожаловано епископство святого Ремигия, богатейший бенефиций! А ему нет еще шестнадцати…
— Ну чего мы спорим? — пожала плечиками герцогиня. — Нас все равно не спросят. — И тут совиные ее глазки округлились до предела. — А вот и он, надежда франков, упование королевства!
В палату верхом на палочке въехал худосочный юноша. У него было одутловатое младенческое лицо и каролингский нос уточкой. Дамы шумно поднялись, приветствуя принца.
Следом вкатились, изображая птичий переполох, шуты и уродцы. Няньки хватали принца под локти, важно шествовали диаконы-педагоги. Скромно вошел и стал к стороне новый главный воспитатель принца — клирик Фульк. Говорили, что он страшно учен, испортил себе глаза наукой и теперь носит на цепочке зрительное стекло.
Герцогиня, растолкав шутов, опустилась перед малолетним епископом, прося благословения. Рикарда, поморщившись на эту сцену, перенеслась на другой конец палаты, где стоял клирик Фульк.
— Кончился ли совет? Я посылала Берту, но пфальцграф, этот грубиян…
Стеклышко блеснуло в глазу нового главного воспитателя.
— Сладчайшая! Не угодно ли я расскажу вам один курьезный случай из последней охоты?
— Брось свое дурацкое стекло! — чуть не замахнулась Рикарда. — Ты забыл, кто тебя вытащил из грязи? Мне нужно знать, кому достанется парижский лен. Отвечай!
— Кому изволит пожаловать их всещедрейшество государь наш Карл Третий, — поклонился Фульк, держа наготове локоть, чтобы укрыться от пощечины.
— Аспид! — произнесла Рикарда, будто плюнула. — Василиск!
Отвернувшись, поправила прическу и, вновь обретя царственную улыбку, хлопнула в ладоши. Берта с готовностью подбежала.
— Что у тебя сладкого для души?
— В людской сидит слепец, зовется Гермольд. Говорит, что пришел из Туронского леса, и у него арфа…
— Зови!
Седому колченогому певцу, на спокойном лице которого виднелись следы каких-то давних ожогов, подали табурет у очага и стакан теплого вина. Он задумчиво наигрывал запевку, как это принято у бродячих певцов: «Один мечом себе добудет трон и королеву, другому борзый конь умчит красавицу жену. Мне служит музыка, слагаю я напевы и тем живу!» Дамы просили спеть что-нибудь самое новенькое, о том, что делается на белом свете. Певец чутко прислушивался к хору их просьб и, когда уловил в нем властный тембр императрицы, начал: