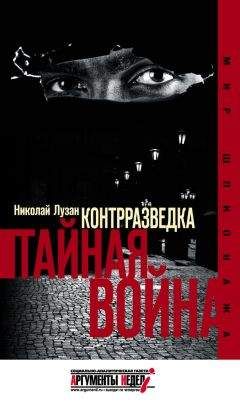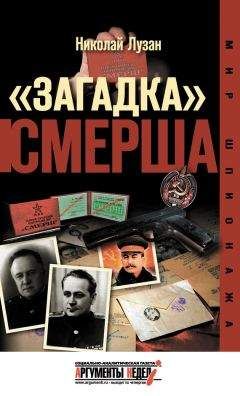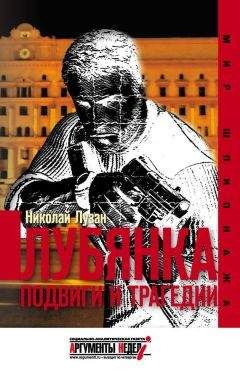Дмитрий Балашов - Дмитрий Донской. Битва за Святую Русь: трилогия
Ян Радлица явился уговаривать ее в тот же день, вечером, уже при свечах. Ядвига глядела на это доброе, умное, старое лицо, здесь ставшее строгим и отрешенным, и не понимала ни слова. Потом взорвалась:
— Ягайло — урод, старик! Убийца Кейстута! Говорят, он дик и безобразен и даже похож на медведя!
Радлица коснулся ее пальцев своею сухою старческой рукой лекаря, воспрещая дальнейшие жалобы, чуть улыбнулся ее горячности:
— Ну, не так-то уж и стар, ему нет еще тридцати лет! К тому же он не убивал Кейстута! — Радлица помолчал, внимательно глядя в лицо девушки, столь пугающе изменившееся за эти немногие дни. — Мать не отдала бы тебя за убийцу!
Напоминание о страдающей матери, едва вновь не лишившейся престола, отрезвило Ядвигу. Как-то вдруг от спокойных слов отцова лекаря поняла, что и там, в Буде, куда хотелось убежать, свободы нет и, быть может, еще тяжелее, чем здесь. А убежав, она изменит и матери, и сестре, отяготив их и без того шаткое положение.
— Каждый человек живет по велению долга! — говорил меж тем Ян Радлица. — Только низшие не понимают того или понимают плохо, но чем выше сан человека, тем выше и ответственность, и король самый несвободный человек на земле! Думаешь, твоему отцу легко было усидеть на двух престолах? Радости бытия, доступные другим, ему были недоступны. Поверь мне, девочка моя, я был поверенным многих тайн твоего родителя и я знаю, о чем говорю! И менее всего свободны князья и короли в выборе спутников жизни! Не по любви, но по долгу и во благо подданных своих заключаются браки королей! Дочь моя! — Они сидели в креслах, друг против друга, и Радлице ничего не стоило, протянув руку, тронуть юную королеву за пальцы, подкрепляя тем силу слов. Привычка прикасаться к пациенту осталась у Радлицы с прежних времен. Впрочем, он и сейчас, в сане епископа, не бросал своей лекарской практики. — В роду твоем святая Ядвига, прабабка великого Локетка, и тебе самой предстоит подвиг во славу апостольской церкви, сравнимый с подвигами Юдифи и Эсфири, возлегшей на ложе царя, дабы спасти от уничтожения народ Израиля!
Ты мнишь уйти в монастырь, дабы охранить девство свое от варвара? — Ян проницательно заглянул в опущенные очи юной королевы, и она, с трудом, чуть заметно кивнула ему, подтверждая сказанное. — Но не думай, что та жертва станет угодной Господу! Ибо тебя ждет великий подвиг! Подвиг, коего не добились за столетия усилий орденские рыцари, ибо не в силе Бог! И единорога может поймать токмо девственница, но не сильный муж, облаченный доспехами. Тебе, именно тебе предстоит труд преодоления тягостной схизмы, воссоединения всех христиан под сенью престола святого Петра, ибо Бог един, и единой должна быть церковь Христова! А в княжестве Литовском обитают не токмо и не столько язычники-литвины, сколько заблуждающиеся схизматики! Не назову их нехристями и не стану повторять, что это такие грешники, от коих самого Господа Бога тошнит, но скажу: нет и не будет сил у римской церкви овладеть миром, ежели она не воссоединит вновь всех христиан, разделенных волею патриархов Константинопольских после Седьмого Вселенского собора! Победа над схизмою — это путь ко владычеству церкви Христовой над миром, и тебе, дочь моя, предстоит возглавить этот бескровный церковный поход! Тебя избрал Господь, и на тебя возложен крест, от коего отступить ты не имеешь права, не согрешая пред Горним Судией!
Ядвига слушала Радлицу, понимая, как он прав и как не права она, и думала о том, сколь счастливее ее простая польская паненка, в тулупе, платке и сапогах, почти неотличимая от мужика, что хлопочет по хозяйству, доит коров, готовит соленья и моченья, лечит травами скотину и окрестных крестьян, пока ее вислоухий муж важно заседает в суде, или едет куда-то на сейм, или гуляет в корчме с приезжими бурсаками, которые, опорожняя чары, поют полулатинскую разгульную песню… И как завидует она этой захлопотанной паненке, которая, поди, и не видала дворцов да пиров знати, разодетой в восточные шелка и флорентийский бархат! И которая меж тем гораздо свободнее ее и большая хозяйка в своем дому, чем она, королева…
По лицу Ядвиги катились не замечаемые ею самой слезы, и Яну Радлице, мгновением, стало до боли жаль эту замученную девочку, от которой требовали пожертвовать любовью, быть может и жизнью самой, ради холодной надмирной идеи мирового торжества католической церкви, в которой самой-то нынче нет единства, ибо двое пап никак не могут прийти к согласию, множатся ереси, ученые люди все более открыто критикуют церковь, а духовные лица погрязают в мирских удовольствиях… И конечно, маленькая Ядвига никогда не будет счастлива с этим литвином… Если бы не надобность объединения королевства! Ежели бы не немецкая опасность, нависшая над Польшей, которую недостаточно понимают даже и многие поляки! Ежели бы не горестная бренность бытия!
— О, зачем я согласилась занять польский престол! — со стоном произносит Ядвига. И Ян медлит, медлит, не желая сказать (но и не сказать нельзя!) того, что больнее всего ударит эту несчастную заблудшую душу. И наконец решается. Он все-таки не только лекарь, но и хирург.
— А уверена ты, что без польского престола была бы любезна своему Вильгельму?
Она смотрит на него с ужасом. В отчаянье трясет головой. О, только не это! Только… Не отбирайте у меня эту последнюю усладу: его любовь!
— Мы были обручены детьми! — кричит она.
— Да, при могущественном короле, твоем отце, владетеле Польши и Венгрии, наследнике неаполитанского престола! Не забывай этого! И отцу Вильгельма, Леопольду, в те времена нужна была не ты, а корона Венгрии или Польши на голове собственного сына! Не обманывайся, дочь моя, ты уже не дитя, и Вильгельм далеко не ребенок!
Удар, видимо, попал в цель. Ядвига трясется в глухих рыданиях, закрывши лицо руками.
— Я хочу умереть! — бормочет она. — Хочу умереть и не знать ничего этого!
Ян Радлица молчит и ждет. Ядвига еще ребенок, но она — королевская дочь и сама королева. И ее участь — подчиняться долгу.
— Я не требую от тебя, дочь моя, — заключает он наставительную беседу, — сразу давать мне согласный ответ, но не забудь, что верующая дочерь церкви не имеет права отринуть Господний промысел! Иначе и церковь, и Господь отступятся от тебя! А теперь — помолимся вместе!
И они встают на молитву, и звучит торжественная латынь. И Ядвига, внимая Радлице, неотрывно глядит на золотой гроб, присланный ей в подарок из Германии. Гроб меньше ладони величиной, украшенный рубинами, стоит у нее на божнице. В нем лежит изваянный из слоновой кости Христос. Кости его обнажены, плоть распалась, и по телу ползают, тоже изваянные из слоновой кости, огромные мохнатые черви — жестокое напоминание о бренности бытия каждого смертного, тем более ужасное, что выполнено как драгоценность, от царственной роскоши княжеских и королевских хором уводящая к холоду могилы. До сего дня Ядвига, любуясь дорогой вещицей, не чуяла грозного смысла, заключенного в ней, теперь же "кипящая червями" плоть Спасителя привела ее в содрогание. Черви… тлен… И нераздельная власть над миром! Власть смерти? Тления, коего не избежал и Христос? Но как же тогда возможно было его воскресение во плоти?
Думать дальше было опасно. Не то легко было додуматься и до того, что правы все-таки схизматики, против которых должна она нынче возглавить крестовый поход. Если бы Радлица знал, к какой роковой черте подвел он сегодня свою духовную воспитанницу!
Теперь все становилось против нее. Фрейлины, дамы двора, комнатные девушки — все наперебой, как сговорившись, советовали Ядвиге согласиться на брак с Ягайлой. Гневош и прочие, что только недавно помогали ей сойтись с Вильгельмом, нынче опасливо молчали, и, словом, она ни в ком теперь не находила поддержки своим прежним намерениям. Опять сказывалась упорная работа тех тайных сил, которые трудились над продвижением католичества на восток Европы.
Ядвига сама не понимала уже, в какой миг ее воля начала гнуться перед этим всеобщим натиском. Во всяком случае, когда она призвала к себе Завишу из Олесницы и, поминутно то краснея, то бледнея, просила выехать навстречу медленно движущемуся литовскому свадебному поезду, тщательно осмотреть великого князя литовского и передать ей, что увидит, — она уже почти была готова дать согласие на брак.
— Не принимай никаких подарков от него! — торопливо выговаривала королева, в представлениях которой прочно отложился образ едва ли не клыкастого чудовища. — И тотчас скачи назад!
Завиша ускакал, и Ядвига стала ждать его возвращения в призрачной надежде каких-то нежданных перемен, но в душе понимая уже, что неизбывное с нею и над ней должно совершиться. (Она все еще втайне переписывалась с Вильгельмом, но уже почти без надежды на новую встречу.)
Завиша исполнил поручение Ядвиги буквально. Явившись к великому князю Литовскому, остановившемуся в Сендомире, он пошел с Ягайлой в баню, и после того как князь и польский магнат, почти понимая друг друга, пропарились, поддавая квасом на каменку, вдосталь нахлестались вениками, а после пили в предбаннике квас и сыченый мед, Завиша сел на коня и поскакал в Краков успокаивать Ядвигу: мол, Ягайло совсем не варвар и дикарь, он мужчина среднего роста, прекрасного сложения, с продолговатым красивым лицом, веселого вида и внушительных княжеских привычек. Сверх того, и причесывается по польскому обычаю: носит тонкие усы, а бороду бреет. Ядвига смотрела в честное, открытое лицо Завиши, верила и не верила ему. Наконец слабо кивнула: "Спасибо! Ты поди!"