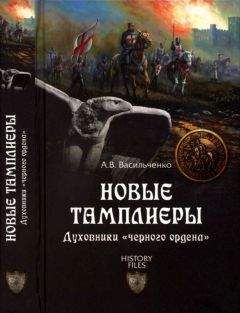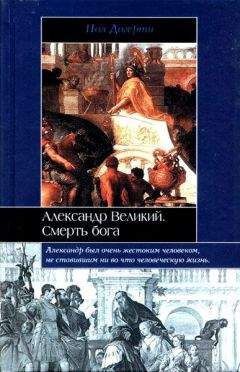Марк Алданов - Истоки
Он вспомнил о народовольцах. «Я в Петербурге себя спрашивал, как после того, что было, можно думать и говорить о пустяках! А вот прошло несколько месяцев, и меня расстроила царапина на письменном столе! Позор? Конечно, позор. Но что же делать, если пусть не все люди, но девяносто девять человек из ста устроены именно так? Знаю, знаю, „барский подход к жизни“, „собственнические инстинкты“, „мещанская душонка“… Когда это презрение не деланое, то оно великолепно. Однако у всех людей, кого я знал, кроме одного Бакунина, это презрение было именно деланое. Как можно всерьез отрицать „собственническое начало“ в душе человека? Оно почти так же естественно, как желанье есть или спать. Издеваться над этим, тем более стараться заглушить это, значит совершать насилие над человеческой душой, вдобавок совершенно безнадежное. Никакие коммунары с этим ничего не поделают, заглушай сколько хочешь, — все равно выйдет наружу, вынырнет из потоков, из морей крови… Да, да, — точно с вызовом коммунарам, народовольцам, революционерам думал он, — я очень рад, что у меня есть свой угол, именно свой: если бы усадьба была не моя, если бы я ее нанял, то удовольствие от нее было бы в десять раз меньше… Никакому французу, англичанину, американцу в голову бы не пришло в этом оправдываться. Я же перед кем-то оправдываюсь, потому что я все-таки русский интеллигент, и всегда им буду, и этим горжусь, как и говорил Лизе Черняковой. Конечно, они от таких чувств свободны. Александр Михайлов, вероятно, так и предполагал, что я кончу тихой радостью от текущего счета. Они ведь язвительны: «текущий счет»! Однако есть маленькая разница между мной и людьми, у которых, кроме текущего счета, ничего за душой нет. Я от мещанского строя прошу только того, чтобы мне дали немного пожить человеческой жизнью, не думая о куске хлеба, прожить скромно, без экстравагантностей. Все-таки я землю отдал крестьянам почти даром… Самодовольство? Нет, в этом меня трудно упрекнуть. Да и есть самодовольство в том, чтобы быть свободным от самодовольства. И у людей тройного сальто-мортале тоже есть самодовольство, разумеется, у каждого особое. Лиза Чернякова рисковала виселицей, чтобы доказать себе и другим, что она не «мещанка»… От народовольцев ничего не останется, кроме легенды. Доктор Петр Алексеевич уже теперь говорит о Перовской, закатывая глаза: «она». Так Плотин из благоговения не решался назвать имя Платона и называл его «Он»… Легенда имеет, конечно, свою практическую ценность, потому что создает подражателей. А хорошо ли это или нет, решит, как в таких случаях говорят болваны, «суд истории».
Он бросил папиросу, закурил другую, прошел от скамейки к мосткам купальной, вернулся и снова сел. Ему казалось, что он должен для себя решить что-то важное, от чего будет зависеть вся его жизнь. «Да, люди тройного сальто-мортале!.. Много хорошего в мире сделано ими и без них сделано быть не могло. Но зато почти все плохое идет именно от них. У человечества, собственно, два несчастья: то, что люди тройного сальто-мортале существуют, и то, что они талантливее других людей. Таким господам, как Бисмарк, нечего делать на мирной, тихой земле. Все, что они делают, это тот же цирк, та же „Блокада Ахты“, только с окровавленными людьми вместо окровавленных чучел… Да, самые искренние, простые и серьезные люди, каких я знал, были клоуны. А эта подделка под клоунов тем в особенности и опасна, что далеко не сразу выясняется, что они были фигляры, что устроенному ими представлению была медный грош цена! Это становится ясным лишь после перемены исторической декорации, этак через полстолетья, когда им горя мало и когда им на смену приходят другие рыжие, а иногда и точно такие же. Да и у лучших людей тройного сальто-мортале зло так перемешано с добром, что только человеческая снисходительность может их посадить под образа истории. О четырнадцатилетнем Антонове, которого разорвала бомба Рысакова, Желябов и Перовская не думали, или это для них препятствием не было: «Лес рубят — щепки летят»… «Без крови ничего в истории не делалось», и т. д. Но историю можно писать и с точки зрения Антоновых, да и черт с ней, с историей! Она, как тронная речь английского короля. У власти либералы — король произносит либеральную речь. У власти консерваторы — король произносит консервативную речь. Так и историки в своем «суде» отражают господствующие мысли их страны и их круга. Это историки честные. А нечестные… Сегодня таких-то людей тройного сальто-мортале казенные перья поливают грязью, завтра другие казенные перья — а то и те же самые — объявляют их великими людьми. Между тем нет великих людей, кроме тех, кто думает и пишет…»
Ему пришло в голову, что он должен написать книгу: настоящую, большую книгу, которая оставила бы память о нем на свете. «Нескромная, нескромная пришла мыслишка: где уж нам в великие люди!.. А то попробовать? Но, конечно, не ученый труд. Им и не оставишь после себя памяти, это самообман ученых. Пушкин называл „Историю“ Карамзина бессмертной, а ее теперь никто в руки не берет. Вечны только произведения искусства: „Война и мир“ не умрет никогда… Вот куда загнул! С новой профессией, дорогой друг! Дослужиться до Андрея Первозванного, а нет, так до Анны 4-ой степени, как в живописи, так в журналистике. О чем же писать роман? Да обо всем том, что я видел и пережил, о Кате, о Бакунине, о народовольцах, об Америке… Но не с чужих слов, как я писал свои дрянные статьи, — подумал он, с ужасом вспомнив статью о Соединенных Штатах. — Возможно проще писать: говорить „седой“, а не „убеленный сединами“. И чтоб каждое слово было выношенной в душе правдой… Хоть, может быть, эта „выношенная правда“ уже первая ложь… Что ж, еще несколько таких увлечений, и я скажу о себе, как тот врач о своем пациенте: „Du moins топ malade est mort guéri…“[302] Мамонтов встал и пошел вверх по аллее домой.
Для романа первым делом нужна была толстая, веленевая, с золотым обрезом бумага и золоченые тупые английские перья. Необходимы были также записные книжки, лучше всего в шестнадцатую долю листа, в мягком кожаном переплете. «Эх, досада, утром бы подумать: купил бы все в городе, там есть большой писчебумажный магазин. Или опять поехать в город?.. Зашел бы к адвокату… Неловко перед Катей…»
В небольшой комнате пол был залит водой. Катя в рубашке расчесывала волосы. Он неслышно вошел и поцеловал ее сзади в плечо. Она вскрикнула и выронила из зубов шпильки. «Да, асимтота счастья», — подумал он.
— Дурак, испугал меня!.. Уходи, братец.
— Я в самом деле дурак, но не поэтому. Представь себе, я забыл купить в городе писчебумажные принадлежности!
— Экая беда. Купишь в следующий раз.
— Нельзя «в следующий раз»! Как пока работать?
— У повара спроси, где-нибудь наверное, найдется пузырек с чернилами.
— «Пузырек с чернилами»! — передразнил он. — Ничего не поделаешь, надо завтра ехать в город опять.
Она жалостно на него оглянулась.
— Завтра? Почему же завтра? — спросила Катя. Ей не очень понравилась эта его вторая поездка в город за два дня, но она тотчас вспомнила 6 совете Алексея Ивановича. — Ну, что ж, поезжай… Ты один хочешь ехать?.. Впрочем, поезжай один. Ты говорил, что тебе лучшие мысли приходят в экипаже. — Она процитировала его дословно, хоть не очень понимала, какие-такие мысли. — А я буду всю дорогу болтать, я себя знаю.
— Совсем не поэтому. Разве ты можешь мне мешать? Но ты просто устала бы: я только туда и обратно. Мне нужно также купить кое-какие книги.
— Еще книги! Да их и так у нас девать некуда!
— А то смешно: всякие Лессинги у меня есть, а Толстого, Тургенева, Гончарова нет. Я не могу жить без «Войны и мира».
— Я могу жить без «Войны и мира»… Скажи, адвокат, наверное, не женат?
— Наверное. По крайней мере, он был не женат еще сегодня утром. Может быть, днем женился? Но я этого не знаю. И ты тоже будешь читать.
— Я знаю, что я страшно необразованная, — сказала Катя, заплетая косу. — Ты сделал большую глупость, что женился на мне. Но когда я тебе надоем, ты не стесняйся и скажи, я уйду к Алешеньке. Но вот что, барин, ты составь список всего, что тебе нужно, а то в третий раз я тебя не пущу.
— Правда, сейчас составлю.
— И если уже ты едешь, то купи там тот торт, который мы ели в кондитерской. Чудный торт! Он называется, кажется, мариньян. Вафли и миньон, я обожаю. И знаешь что, купи сразу два: они не портятся.
— Я куплю три, — сказал он.
VII
Первые представления цирка шапито должны были состояться поблизости от Петербурга, и решено было везти реквизит на подводах. Лошади, трапеции, ходули были отправлены накануне. Легкий реквизит был погружен рано утром. Артисты в большинстве тоже сели на подводы, кто по безденежью, кто, как Рыжков, из товарищеского чувства, чтобы не выделяться. Директор предпринял поездку по России с очень небольшими деньгами и предупредил об этом артистов. Они согласились работать на паях, зная, что директор честный человек.