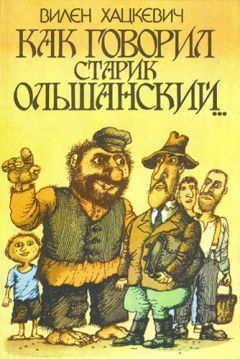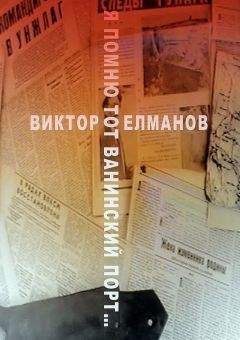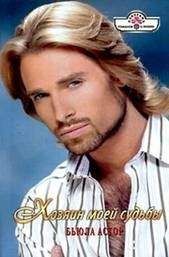Вилен Хацкевич - Как говорил старик Ольшанский...
Дети Сундуковского ходили в американских вещах. Об этом уже знали все. Об этом знали и в десятом отделении милиции.
— Послушайте, Сундуковский, — спрашивала его Маня Мирсакова, — и вы не боитесь?
— Чего я должен бояться? Что я, «враг народа»?.. Ну, так на худой конец, они меня с моей кодлой вышлют в Америку… Кому от этого будет хуже?..
Из открытого окна квартиры Сундуковского слышались звонкие голоса детского ансамбля «имени его»:
Идут себе три курочки:
Первая впередю,
Вторая за первою,
А третья — позадю.
А я, а я, сидю на плинтуаре
И что я видю?
А вот что видю я:
Идут себе три курочки…
* * *
Мишка Голубь вернулся из Одессы. Мишка, эта добрая душа, сопровождал какого-то дедулю в институт Филатова. Из его рассказов мы поняли, что в Одессе он не всем понравился.
— Я выстоял сумасшедшую очередь, чтобы попасть к местному светиле, мастеру-парикмахеру, Юлиусу. И этот князь в накрахмаленном халате, проведя несколько раз острой бритвой по моей морде, заявил: «Мне не нравится ваша борода. Вы, конечно, хотите знать почему? Так я вам, молодой человек, отвечу: волосы — как то железо, а кожа, простите, тонкая, как тот презерватив… Во-первых, вы мне портите инструмент, а во-вторых, вы меня извините, здесь не пункт переливания крови…»
— В другой раз, — продолжает Мишка Голубь, — уже другой, но не менее известный мастер Фурман заявил, что с такими ушами, как у меня, лучше вообще не ходить в приличную парикмахерскую. Да и вообще, мол, голова у меня не совсем правильной формы, — явно не глобус. На ней, мол, его работа не имеет никакого вида… А зубная врачиха заявила мне, что ей не нравится мой прикус. Что я ей, собака?.. Мои кривые лошадиные зубы ей почему-то понравились. Почему? Потому что они большие и очень удобные. Есть за что ухватиться при их удалении… Ну, бля, охренеть можно от этих одесситов!
— Ну, а мо-ре? — заикаясь спросил Вовка Японец.
— Море?!.. Ну, бля, и ванночка, я вам скажу! Стоишь на берегу, где кончается земля, а дальше — сплошная вода, конец света…
Мы знали Одессу по песням, по анекдотам, по книжкам, по фильмам… Ну, еще… «Сейчас как возьму на Одессу!» — обычно кричал разъяренный Джуня, выставляя вперед свою рыжую башку в драке.
Что касается нас, так мы в свои юношеские годы дальше Корчеватого не выезжали. А тут наш человек побывал в легендарной Одессе!..
— Вот, значит, ходишь по той Одессе, бродишь себе по Дерибабушке и, честно, ничего не происходит: не стреляют, не грабят, и смешного ни хрена нет. Вот только море, море — это «чего-то особенного», как говорят в Одессе. Купался до одурения, до сих пор соль с кожи слизываю.
— Э, хлопец, чтобы понять Одессу, так там нужно родиться и долго-долго жить, — сказал старик Ольшанский. — А что касается моря, так его можно построить и в Киеве. Я так думаю. Ну, чуточку поменьше будет… Но можно.
— Ой, Ольшанский, перестаньте! Вечно вы со своими библейскими фантазиями… Вы лично бывали в Одессе? — спросил Холоденко.
— Не бывал, нет… Мне вечно не было на кого оставить мою лошадь.
— Жаль… Одесса это в самом деле «чего-то особенное». Можете мне поверить. Я там был совсем-совсем недавно.
— Ездили на совещание управдомов или по обмену опытом? — съязвил Юрка Цыпа.
— Между прочим, я освобождал Одессу, сопляк.
— От кого? — завелся Юрка Цыпа.
— Дурень ты… Что тебе еще сказать? Лучше спроси у своего батьки, где он потерял ногу. И не шути со мной, а то я контуженный…
— Ну, тихо, тихо уже! Что вы завелись? — успокаивал Миша Мирсаков. — Молодежь, пусть будет тихо! Извините, товарищ Холоденко, но вы хотели что-то сказать за Одессу. Вас перебили, не берите этого в голову.
— Пусть он лучше уйдет, — раздраженно сказал Холоденко.
— Цыпа, пойди постучи в домино, — сквозь зубы предложил Васька Соболь.
— А чего он…
Васька не дал закончить Цыпе фразу и занес над его головой руку, но прежде, чем она опустилась, Цыпа уже исчез.
— Ну-ну, товарищ Холоденко, так что? — спросил Миша Мирсаков. — Ради Бога, не отвлекайтеся…
— Минуточку, я сейчас вернусь, — сказал Холоденко.
И он скоро вернулся с книжкой в руках, молча раскрыл ее и ткнул указательным пальцем в фиолетовую надпись.
— Что там? — спросил Мирсаков. — Я без очков. Вилик, прочти, что там написано.
Вилька взял книгу и громко прочитал: «Участнику боев за Одессу тов. Холоденко А. И. с пожеланиями здоровья и успехов в личной жизни от афтора»… От «афтора», — повторил, хихикнув Вилька. — Он что, немец?
— Кто немец? — спросил Холоденко.
— Ну этот, который книжку написал.
— Почему он должен быть немцем? Он одессит. А в чем дело?
— Да нет, все нормально. Хорошие слова он вам написал, — успокоил управдома Вилька.
Книжка пошла по рукам.
— Ну, есть еще вопросы? — спросил Холоденко.
— О чем вы говорите, какие могут быть вопросы? Все и так ясно… Другого бы и не назначили на вашу собачью должность, — хитровато заявил старик Ольшанский, почесывая свой затылок.
— А, ну вас всех в баню! — почему-то обиделся Холоденко. — Хай она горит, та Одесса! Что вы прицепились? Вам что, в Киеве плохо? Голубь, это ты кашу заварил со своими майсами?!
— А я тут причем? Тоже нашли козла отпущения…
— Одни воевали, а другие в это время байстрюков стругали с закрытыми глазами, — пробубнил Холоденко, и при этом как-то нехорошо посмотрел в сторону Сундуковского.
— Что?.. Да я тебе!.. Я вам!.. — вскипел Сундуковский…
— Миша, Миша! Люди! — послышался крик Мани Мирсаковой.
Она выскочила на порог с перепуганным лицом.
— Что случилось, Маня? — взволнованно спросил Миша.
— Ой, ой, Миша!.. Сталин умер… Сейчас по радио передают…
* * *
«Жить в Киеве — уже само по себе есть награда», — любил повторять Ольшанский.
«Амэвин — явин» (понимающий — поймет), — говорил Ольшанский.
Старик Ольшанский… Во время разговора с его лица не сходит улыбка, добро насмешливая и чуть-чуть грустная. Один глаз закрыт, а второй полу-улыбается. Нижняя губа, в табаке и крошках, нависла над подбородком. Он подходит к вам, берет вас за пуговицу и, шморгая носом, доверительно сообщает:
— Все мы помрем… Человек подобен столяру: столяр живет и умирает, и человек — тоже… Вы можете мне не верить. Но так сказал реб Шолом, а он знал, что говорит…
* * *
Умер Сталин… Когда Вилька открыл дверь школы, в вестибюле у огромного белого гипсового бюста вождя стояли навытяжку с покрасневшими от слез глазами Галка и Зинка с траурными нарукавными повязками. Вилька поздоровался. Но они, казалось, окаменели.
Как-то не укладывалось в голове… Как это он мог умереть? Он — великий вождь всех народов.
Недавно, в декабре, в день Конституции, Вилька сочинил для школьной газеты стихотворение… «День Конституции! Великий Сталин создал этот день…»
В школе стояла непривычная тишина. Всех буквально придавило горе… В классе над доской со стены как всегда смотрел на нас Сталин…
Кажется еще совсем недавно (Вилька тогда был в третьем или четвертом классе) он стоял на большой сцене клуба имени Фрунзе, а за его спиной в два ряда высился школьный хор из старшеклассников, и Вилька звонким голосом солировал:
На просторах Родины чудесной,
Закаляясь в битвах и труде,
Мы сложили радостную песню
О великом друге и вожде.
Сталин — наша слава боевая,
Сталин — наша юность и полет.
С песнями, борясь и побеждая,
Наш народ за Сталиным идет…
Э, иди тогда знай… Все воспевали отца народов: от последнего акына до первого инженера человеческих душ…
* * *
Утро.
Старик Ольшанский ведет за руку внука Сему. Они переходят трамвайную линию, идут на другую сторону Большой Васильковской, проходят мимо базара, мимо церкви и, не доходя до пожарной части, заворачивают в переулок, где находится Семин садик. Рядом с детским садом идет стройка, откуда доносятся голоса рабочих…
— Деда, я сам дорогу знаю, я сам тебя в садик поведу, — кричит Сема, вырывая руку. Он бежит впереди и указывает деду дорогу. Он уже вторую неделю ходит в садик с бабушкой, а вот сегодня, впервые, с дедушкой.
— Вот наши ворота, вот наша площадка, вот наш песочник, вот…
Он задрал голову в сторону строительного крана и вдруг, страшно выпучив глаза, истошно закричал: «Любка, твою мать, майнай!..»
Вечер.
— …Ну, Сема, тебе хорошо в садике?
— Хорошо, баба.
— Кормят хорошо?
— Да, баба.
— Книжечки вам сегодня читали?
— Ага, про дедушку Оленя читали, в которого тетя Каплан стреляла…
— Деда, расскажи, как работает паровоз.