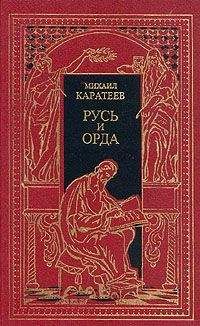Николай Дубов - Колесо Фортуны
Аверьян Гаврилович усадил Толю на табурет перед столом и достал с полки толстую книгу без переплета.
— Сейчас посмотрим, — сказал он, открывая ее. — Г… г… г… Ганыка… Вот, пожалуйста. — И он положил перед Толей развернутую книгу. — Это изображение герба Ганык. А вот и описание… "В щите, имеющем серебряное поле, изображено красное сердце, пронзенное двумя саблями. Щит увенчан дворянским шлемом с дворянскою на нем короною. Намёт на щите серебряный, подложенный красным". Намётом называется вот это обрамление по бокам и сверху щита из таких условных как бы листьев… Он образует, так-скать, шатер над щитом… Да, собственно, намёт — это и есть по-польски шатер…
— А что это значит, — спросил Толя, — сердце, пронзенное саблями?
— Вот уж тут, знаете, — развел руками Аверьян Гаврилович, — не умею вам объяснить. Думаю, просто перенято с какого-нибудь другого герба. Это довольно распространенный в геральдике мотив — сердце, пронзенное мечом, кинжалом… А может, и был какой-нибудь Ганыка, переживший трагическое разочарование? Или измену?
Мотивы, так-скать, вечные. Ведь и до сих пор, — прижмурился Аверьян Гаврилович, — молодые люди вырезают на скамейках и на деревьях сердца, пронзенные стрелами…
— Да, бывает, — согласился Толя и почему-то покраснел, хотя сам никогда таких сердец не вырезал. — А можно, — сказал он, чтобы перевести разговор, — вы не позволите мне перерисовать этот герб? Я бы хотел показать его своим товарищам в Ганышах, — добавил он и покраснел еще больше.
— Пожалуйста! Вы хорошо рисуете? Может, лучше скопировать: на папиросной бумаге, я имею в виду? Вот вам листочек бумаги, карандаш… Только, пожалуйста, сильно не нажимайте…
Толя перерисовал герб, записал, как он раскрашен, и, несмотря на полную готовность Аверьяна Гавриловича продолжить столь интересно начатую беседу, поблагодарил и распрощался. Он был очень доволен собой. Не потому, что многое узнал, а потому, что его осенила мысль сделать Юке сюрприз. Он представил, как удивленно и восхищенно Юка взмахнет своими мохнатыми ресницами, и заранее сдержанно и скромно улыбался.
Внезапно эта воображаемая картина исчезла вместе с улыбкой. Толя припустил бегом к дому. Он схватил портативный магнитофон, проверил, на месте ли бобина, и побежал обратно. За высоким дощатым забором выла собака. Может быть, она потеряла хозяина и теперь изливала свою тоску о нем, а может, это просто был уже большой, но еще глупый щенок, которого оставили одного, ему стало невыносимо неуютно и скучно в одиночестве, и он жалобным воем выражал свою обиду на судьбу и хозяев.
Толя подвесил микрофон к нагрудному карману, приоткрыл крышку магнитофона и включил. Бедный пес начинал с короткого повизгивания, его сменял скулеж, становящийся все громче и протяжнее, и завершал все необычайно тягучий, с какими-то даже фиоритурами, невыносимо тоскливый вой. Толя записал несколько таких рулад и, очень довольный, выключил магнитофон.
В этот день ему решительно везло. Неподалеку от своего дома он нагнал женщину, катившую коляску, в которой куксился и хныкал маленький ребенок. Толя включил запись. Ребенок плакал все громче, пока не зашелся в отчаянном "уа-уа". Мать вынула его из коляски, начала тетешкать на руках и тут заметила Толю.
— Что тебе нужно, мальчик? — сердито сказала она. — Не видишь, ребенок плачет, а ты тут крутишься со своим ящиком.
— Извините, пожалуйста, — сказал Толя и ушел.
Фонотека всегда была у них в идеальном порядке, и Толя тотчас нашел серенаду Мефистофеля из оперы Гуно.
Правда, Шаляпин пел ее по-французски, но это не имело значения — слова Толе не были нужны. Однако прослушав Шаляпина, Толя поставил серенаду в исполнении Пирогова и — остановился на ней: запись была свежее, голос звучал грубее, резче… Толя свел записи на одну пленку, потом, меняя их местами, вслушивался, регулировал тембр, громкость, а кое-где даже менял скорость, и звук растягивался, плыл, становился странным и каким-то диким…
Настал вечер, который в Чугунове очень быстро переходит в ночь. Толя покончил с записями и сел к столу у открытого окна, чтобы изготовить свой сюрприз. Он отодрал от блокнота обложку из плотного картона, перенес на нее рисунок герба и густо раскрасил акварельными красками. Потом он вырезал герб, обтянул целлофановым листком; а при помощи клея и полоски материи прикрепил английскую булавку к обратной стороне герба. Получилась вполне приличная брошка.
Он подошел к зеркалу, приложил герб к нагрудному карману, чтобы посмотреть, как это будет выглядеть, и едва не уронил свое изделие — за окном раздался утробный вопль… Толя бросился к магнитофону, включил его и поставил микрофон на подоконник. За первым воплем последовал второй — тягучий, душераздирающий. Орали коты. Они были где-то совсем близко — в палисаднике или за штакетником на улице. Толя оглянулся на магнитофон — бобины бесшумно вращались, успокоительно горел зеленый глазок индикатора — и погасил настольную лампу, чтобы она не помешала подзаборным солистам.
Но им уже ничто не могло помешать. Они входили все в больший раж и выли, орали все исступленнее. Раньше Толя не обращал никакого внимания на кошачьи крики, но теперь с удивлением подумал, как эти ласково мяукающие, нежно мурлыкающие маленькие животные могут испускать такие громкие и гнусные вопли? Можно было подумать, что кричат не обыкновенные домашние мурки и васьки, а какие-то ягуары или пантеры. В этих воплях было все — и бесконечное страдание, и дикая угроза, и кровожадное предвкушение расправы, и смертельный ужас добиваемой жертвы. Коты заводили то поодиночке, то оба сразу, на мгновение смолкали и снова завывали невыносимо мерзкими голосами, от которых мороз шел по коже, хотелось зажать уши, захлопнуть окно… Но Толя наслаждался. Он с упоением вслушивался в эти кошмарные рулады и боялся только одного: что разбуженный сосед или случайный прохожий камнем или палкой оборвет кошачий концерт.
В Чугунове глубокой ночью не бывает случайных прохожих и никто не просыпается из-за кошачьих криков.
Они оборвались сами. Довольный сверх всякой меры, Толя снова сделал перезапись, уложил магнитофон в рюкзак, чтобы никто не видел, что он везет, в авоську сложил покупки, сделанные по маминому заданию, и, боясь проспать первый автобус, поставил заведенный будильник возле кровати.
Дальнейшее сложилось наилучшим образом. Толя сошел на остановке возле лесничества, где, как они заранее условились, Антон уже ожидал его. Сопровождаемый Боем, Федор Михайлович вместе с лесничим уехал на какой-то дальний кордон, принарядившийся дед Харлампий первым автобусом отправился в Чугуново на суд, а тетка Катря, не поднимая головы, копалась на огороде за своей хатой. Поэтому никто не видел, как Антон спрятал под рядном рюкзак с магнитофоном.
Дома Толя очень непринужденно объяснил, что, увидев вернувшегося Антона — родители уже знали, кто такой Антон и всю предшествующую историю, — сошел с автобуса, чтобы с ним поговорить, ехать уже было не на чем, а тащить и магнитофон, и авоську с продуктами тяжело. Поэтому он решил, что важно в первую очередь принести продукты, которые мама поручила купить, а магнитофон он принесет вечером или завтра.
Эта маленькая ложь помогла Толе добиться послабления домашнего режима, которое было совершенно необходимо для выполнения плана.
Толя спросил, не будут ли мама и папа возражать, если он переберется спать под навес. Ночи очень теплые, в хате душно даже при открытом окне, а если вынести раскладушку под навес…
Мама, конечно, сказала "нет!". Что бы ни говорили или предлагали другие, она первым долгом обязательно говорила "нет". Просто у нее такой рефлекс на любые просьбы и предложения. Почему нет? Мало ли что… Могут украсть…
— Меня украсть? — улыбнулся Толя. — Простыни или одеяла? В селе воров нет. Митька Казенный сидит, а другие…
— Тебя там загрызут комары!
— Ну, — сказал папа, — это все-таки комары, а не аллигаторы. Я думаю, до смерти не загрызут, а мальчику полезно быть больше на свежем воздухе. Насидится в комнатах зимой.
Вмешательство папы, а главное, аккуратность, с которой Толя выполнил ее поручения и тем растрогал материнское сердце, принесли победу. Чтобы закрепить ее, Толя тут же перетащил раскладушку под навес и расстелил постель.
— Да, и еще, мамочка, я хотел тебя попросить: дай мне, пожалуйста, какую-нибудь темную рубашку. Для города эта хороша, а здесь я пойду с ребятами в лес, на речку и могу испачкать. Просто жалко.
На такую благоразумную просьбу даже мама не смогла ответить отказом.
Толя переоделся, позавтракал и, не застав Юки дома, пошел на их условленное место сбора — к гречишному полю. Ребята были уже там.
Все произошло точно так, как он и предвидел. Достав картонную коробочку из-под каких-то маминых пилюль, он протянул ее Юке.