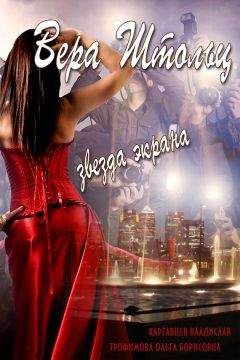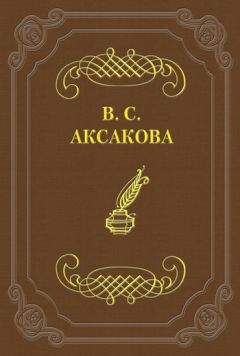Владимир Кораблинов - Воронежские корабли
Чуть брезжить стало – за Доном пыль, скачут всадники. Глянуло солнышко краем – заблестели у них доспехи. Вот ведь дияволы!
Ну, чаем, погибель…
Ано – нет!
Под ногами у дива камень шевельнулся, пал. И вылазит из-под камения старый старичище: медведь не медведь, человек не человек. Седыми волосищами зарос, страшон – альни ужасно.
Приставил лапу к глазам, глянул за Дон. А там – пыль, всадники рыщут.
Пудовым кулаком погрозился на них старец.
– Эй, – рыкнул, – псы несытые! Еще не нажрались человечины? Так голодные же ноне поснете!
И, нас за собою маня, полез в норку под камень. А мы за ним полезли.
Ползем во тьме, как кроты. Родителя кое-как на епанче волочим. А лаз – длинный. Куда ползем? Не вем – на спасение, не вем – на погибель. Страшон старец, прямо – лешой, да ведь и наружи – беда: осударевы псы.
Кончился лаз, оказалися мы в пещерке. Вот она самая и есть, где мы, братцы, сей час с вами сидим…
– Да как же, дядя, – сказал Васятка, – ты сказываешь, что от дива полезли вы под землю, а ведь наш лаз много выше.
Пантелей ничего не ответил, усмехнулся.
– И вот, ребята, – продолжал он, – зачали мы жить тут. Старичище, спасибо ему, целебной травкой родителя отходил, срослась кость на голове. И встал батя на ноги.
– Ну, – говорит старичищу, – скажи, как за тебя богу молиться? Имечко, – говорит, – свое, отче, назови.
А тот смеется.
– Зовут меня, – бает, – зовуткой, а величают уткой. Было, – бает, – дело, хаживал и я не хуже вас таких-то… Да это, детки, когда было-то! Уж я и сам позабыл. Слыхал, – бает, – ноне про ваши потехи, про донского казака Степана слыхал. Завидки брали, слышучи, да стар. Помру, однако. Докучаю смиренно: пожалуйте, закопайте старика.
Помер ведь.
Закопали мы его втай, где указал.
А весна миновала и лето. Уже осень идет.
Во-ся и говорит родитель:
– Полно-ка в яме-то сидеть. Инде еще от нас прок будет, а тут чего же, под землей-то? Не аржано семя, из едина седмь не вырастем. Айдате, детки, на свет, на Русь – до времени. Еще-су загорится пожар на Дону, еще всколыхнется Расея-мать…
Всем уходить велел.
А мне наказал восвояси бежать.
– Утри, – молвил, – матери глазыньки, небось, нас дожидаючи, все проплакала, бедная.. Я же, – молвил, – пойду по Руси глядеть. Инде – свидимся.
И поклонился нам земно, и во-ся – нету его. Не знаем – на сивер пошел, не знаем – на полдень.
Ну, мы – кто куда.
И я на Хопер поплелся.
Бреду седмицу, бреду другую. Уже и белые мухи полетели.
Вот Борисоглебск-город завиднелся. Тут – Танцерей-деревенька на пути.
Гляжу – скачут какие-то от деревни конные. Ох, мыслю, не ордынцы[15] ли?
Схоронился б, да где схоронишься? Место степное, далеко видать. Ползу по снегу, чисто вошь по рубахе. «Матушка, – шепчу, – спаси, заступница, помози!»
Верно, ордынцы оказались.
Они с луками обскочили меня, черны, зверовидны, в лисьих колпаках. Аркан на шею и – погнали.
Где за конем бегу, где, пав, по снежку волочусь.
Но вот глаза тьма застлала. Мыслю: смерть.
Ано нет, отживел.
Чую – на коне я, а руки-ноги затекли. Огляделся: на лошадий круп что мешок кинут, арканом приторочен к седлу.
Тут я заплакал.
Не от нужи, братья, заплакал, – от обиды, что не видать мне больше матушки русской земли…
Притащили в орду, наложили железа, колодки набили, и стал я не человек, а хуже скотинки: неволя ж. Пошла не жизнь – мука мученская…
В ту пору ж наехал из Туретчины купец, привез в орду ситцы. Они, дядины дети, меня купцу продали в галерники. Пять годов без малого сидел за веслом на купцовой галере. Что битья принял, что ругани! Ну, да что! Много про то баять. Лучше скажу, как у Крымского берега было. Напал на галеру корабль христьянский. И побили они турчинов, и взяли ихнее добро. А нас выпустили на берег, на крымские пески.
Сказывали, будто корабль – веницейский, разбойничий. Ну, нам те разбойники милей родимых братьев.
Со мной душ двадцать наших русских христьян было. Пошли не вем куда, скрозь пески. И так, бога ради, ничего, прошли. Не тронули нас крымцы.
И пришли мы на Русь.
Дивятся же нам люди: как-де такую нужу претерпели да целы остались?
– Ништо, – баем, – ломали нас – не доломали, жгли – не дожгли. Теперь на русской земле, слава богу.
И опять я, братья, на Хопер побрел.
Глава двадцать первая,
повествующая о дальнейших приключениях Пантелея, а также о неожиданном появлении преследуемого драгунами беглого солдата Гунькина
Сказав так, Пантелей умолк, прислушался, И Соколко косматые уши навострил.
Но была тишина.
– Прости, брате, – сказал Демша, – не вем чего наплел на тебя. Да ведь чудно, право, попритчилось, как ты пещерку с кладом указал. Прости.
До земли поклонился Демша.
– Ничего, – сказал Пантелей. – Полно об том. Давайте буду дальше сказывать.
Побрел на Хопер, стало быть.
Мыслил: беда за песками, за морем. А она, окаянная, на родимой земле караулит.
В Богучаре на торгу милостинку просил. Набежали пристава, схватили: «Ты-де боярина Синявина убеглый человек!»
На съезжую запхнули. А там, верно, убеглых холопов человек с двадцать. И меня к ним. Кричу приставам, что – казак, вольный-де. А они не слушают, смеются.
Да так всех нас, рабов божьих, и пригнали в синявинскую вотчину.
А мне, ребята, уже и бегать наскучило. И стал я жить в боярских холопях. От турецкой неволи ушел, вклепался в свою, в русскую.
Тут всяко со мной деялось: и пашню орал, и дровишки сек, и много чего. Под конец поставили на псарню.
А он злодей был, боярин-то, царство ему небесное. Людей мучил-таки довольно. Поплакали мы от него. И вот до меня добрался.
Недоглядел я кобелька его любимого: так-то, случись, затоптал конем. Грех невелик ведь, да кобель вышел – так, прицепка: я ему, боярину, прежде согрубил раза два, каюсь, дерзко сказал. А тут он и вспомнил.
Всыпали мне, конечно, – ни лечь, ни сесть. Я вам тогда показывал. Всыпали и – в башню.
У нас башня была в саду. Кого туда кинут, тот, почитай, не жилец: замучают.
Зачал меня боярин терзать. Хотел, видно, чтоб я на коленки пал. Нет, не падаю, креплюсь. Он же, диявол, от того пуще распаляется.
Вот сижу в башне. На дворе – ночь, тьма. Сижу во тьме, мышки пищат. Сон не идет. И зачал я думу думать: что за такая моя жизнь? Оглянусь назад – сеча, рабство, нужа. Погляжу вперед – ох, заступница! Чуть ли не погибель.
И воспомнил родителя: пошто-су, батя, встречу посулил? Ведь я погибаю.
Сижу во тьме, на родителя ропщу: пошто-су обманул?
А наружи – сивер, погодка. Дождь в оконце захлестывает.
Во-ся слышу: «Пантелей!» Тихо так.
Позвал кто-то.
И в другой раз, и в третий.
Я – к оконцу. А оно – махонька отдушника, только руку просунуть.
Никого нету. Ветер шуршит в деревах.
«Попритчилось», – мыслю. Прилег на соломку, тотчас сон набежал, забылся.
И вот, ребята, пришел ко мне в сонном видении мужик – дряхл, сед, бородищей до пояса зарос, армячишко худой – одна гуня. Черный рубец через лоб – аж до самой маковки.
Стоит мужичище, в руке – хартия, лист бумажный.
– Не признаешь? – молвит.
Я его не признал, винюсь.
– Ну, – молвит, – бог с тобой. Вот, – молвит, – грамотка. Иди, показывай добрым людям. Коим чти, а кои разумеют – нехай сами потрудятся. Тут до всех касаемо. А сей час, – молвит, – сыне, встань. Над тобой в кровле тесина гниловата, слаба…
И нету мужика.
Я вскочил. Светает. Ветер шуршит. Возле оконца на полу – грамотка – мы ее тогда с вами под Ситной-деревней чли: чтоб в атаманское войско идтить.
Что за притча? Как в башню грамотка попала?
Про тесину воспомнил: к чему про тесину мужик помянул?
Да и осенило, глупца: кровля-то, знать, худа, бежать мочно! А как туда залезть? Высоконько-таки. Но долго гадать нельзя, к спеху дело: в селе к утрени благовестят, самое время мучителю моему жаловать. Он, собака, об эту пору с заплечным мастером меня мучить хаживал.
Как-су мне быть? Чего б подставить, да нечего.
Ано гляжу – батюшки! – жердинка в оконце просунута.
Ну, чудесно!
Прислонил жердинку к стене, залез под кровлю, толкнул доску – она и отвались: гниль, щепки, труха.
И вылез я, сердешный. Пал в крапиву, бегу. А он, мучитель мой, мне навстречу. Один, без заплечного. Тот, верно, следом жалует.
Ну, тут уж простите за-ради бога: не чаял губить, а пришлось, спешил. Резанул с левши в темечко – он и не охнул.
Э, да что! Не я, так другой такой-то решил бы. Худой человек был, сам себе погибель искал.
Убег-таки я. Соколко вот за мной увязался.
Далее, братья, вам все ведомо, от Ситной вместе брели.
Пантелей расправил заржавевшие складки железной рубахи и задумался, словно вспоминая что-то.
– И во-ся мнится мне все, – тихо сказал наконец, – мнится мне: родитель тогда в башню приходил. А я не признал. Тужу, ребята об том…
Молчали пещерники. Что сказать?
И вдруг Соколко вскочил, кинулся в лаз.