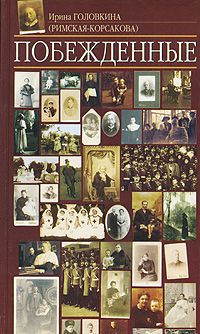Элиза Ожешко - Гибель Иудеи
Вольноотпущенник усмехнулся. Это было ему знакомо. Все они таковы, а потом…
— Исполни танец дочери Иродиады, — попросил он.
Она положила на колени восьмиструнную киннору и взяла несколько страстных, безумных аккордов. Инструменты музыкантов вторили ей.
Саломея пела полуоткрытыми губами опьяняющую песню любви. Отбросив киннору после первой строфы, она вступила на ковер посреди залы. Но она не танцевала; стоя на одном месте, она только качалась, следуя ритму мелодии. И в этом ее движении было, однако, что-то неотразимое.
Глаза гостей неотступно следили за ней. Она ни на кого не обращала внимания. Взгляд ее был устремлен только на Этерния Фронтона. Она чувствовала в душе только безграничную пустоту. Радость и печаль, страсть и холод, любовь и ненависть — все исчезло. Любовь? А он — Флавий Сабиний? Чем он был для нее теперь? Она стала одной из тех холодных мраморных статуй, которые стояли в углах залы, бесчувственные, безжизненные. Все видели ее позор. И опять она встретилась со страстным взглядом Фронтона. Он был, очевидно, изумлен переменой, произошедшей с ней, и гордился легкостью победы над ней.
Неужели не все в ней умерло? Безумное чувство смертельной радости душило ее, кружило ей голову. О да, он должен ее полюбить, полюбить, полюбить до безумия, и тогда… О сладость мести!
Ее глаза, завлекая, устремились на него, манящая улыбка осветила ее мраморное лицо; обольстительно изгибаясь в танце, она незаметным движением отстегнула пряжки на своих одеждах.
— Саломея!
Она вздрогнула, и холодный пот выступил у нее на лбу. Рука бессильно опустилась.
Флавий Сабиний!
Он устремился к ней, раздвигая толпу танцовщиц и певиц. Она отшатнулась; он протянул руки, чтобы поддержать ее, но она выпрямилась, и глаза ее скользнули по его лицу холодным чужим взглядом.
Этерний Фронтон поднялся со своего ложа, схватил тяжелый серебряный кубок, чтобы бросить его в голову ненавистного Сабиния. Но вдруг знакомый голос, которого он так боялся, окликнул его, и чья-то сильная рука сжала его руку:
— Благодарю тебя, друг Фронтон, за приветственный кубок вина, который ты мне предлагаешь!
На лице Фронтона показалась рабская улыбка.
— Тит!
— Ты изумлен, что я так поздно пришел к тебе? — со смехом сказал сын Веспасиана. Но разве ты не знаешь, что Тит всегда рад кубку старого фалернского и пламенному взору прекрасных глаз. Известие о твоем пире дошло до меня как раз вовремя. Бог Кармеля и еще кое-что взволновали мне кровь, и я уговорил Флавия Сабиния пойти со мной сюда.
Он опустился на подушки в одном из углов залы и велел принести ему вина.
— Не лучше ли тебе сесть за большой стол, — сказал нерешительно Фронтон. — Мои гости никогда мне не простят, если я лишу их случая быть замеченными Титом…
— На что мне эти болтуны! — сказал Тит. — Мне нужно поговорить с тобой.
— Я хочу надеяться, — пробормотал вольноотпущенник смущенно, бросив беспокойный взгляд в сторону Саломеи и Флавия Сабиния, — я надеюсь, что буду в состоянии следить за твоими словами. Говоря откровенно, я несколько… вино и…
— Женщины, не правда ли? — сказал Тит, грозя ему шутливо пальцем. — Не притворяйся, друг! Не боишься ли ты, что мой двоюродный братец отобьет у тебя эту красотку? Не бойся, он слишком добродетелен, он не опасен.
Тит усадил слегка сопротивлявшегося Фронтона около себя и начал говорить ему о чем-то.
Тит был не богат и нуждался в деньгах. Не в первый раз он обращался с подобными просьбами к Этернию Фронтону, своему бывшему рабу. Правда, Фронтон не давал денег даром, но за меньшие проценты, чем ростовщики. Этим он покупал расположение Тита. По мере того, как Тит излагал свою просьбу, лицо Фронтона все более просветлялось. Наконец он с торжеством взглянул в сторону Флавия Сабиния и Саломеи. Для него оказалось очень кстати, что Тит нуждался в деньгах.
— Саломея, что значит эта внезапная страшная перемена?
— Не спрашивай.
Он с мольбой глядел на нее, но она не поднимала глаз.
Неужели он ошибся в этой девушке, неужели ее невинность и сердечная чистота были лицемерием и ложью?
— Если бы ты знала… все это время я думал только о том, как спасти…
Она покачала головой.
— Спасти? Зачем?
Он побледнел.
— Я не понимаю тебя. Ты бы хотела… Фронтон для тебя…
Она не отвечала. Она словно ничего не слышала, а между тем каждое его слово, каждый звук его голоса впивались ей в сердце.
— Неужели я тебе так ненавистен? — шептал он. — Конечно… та маленькая услуга, которую случай помог мне оказать тебе, не дает права на твою дружбу. Я все-таки римлянин — враг твоего народа, и ты должна меня ненавидеть…
Ему показалось, что она хочет что-то сказать, он наклонился к ней, затаив дыхание, но она не произнесла ни звука.
— Не знаю, — прошептал он, растерявшись. — Ты не была такой молчаливой и странной в тот вечер, когда я увидел тебя впервые. Теперь же… Саломея, если бы ты могла заглянуть мне в душу… Я не могу отделить мысли о тебе от мысли о моей матери. Она уже умерла давно; она была простая старая женщина, не очень умная, но она любила меня, и я ее любил; с тех пор, как помню себя, я всегда был окружен тихим дыханием ее души. И теперь, когда я смотрю на тебя, мне кажется… что-то перешло к тебе от умершей, что-то высокое, теплое. Мне кажется, будь она жива, она бы, взглянув на тебя, сказала мне: сын мой, вот жена для тебя.
Он замолчал и напряженно вглядывался в ее черты, ища в них ответа.
— Зачем ты мне это говоришь? — глухо спросила она.
— Зачем? Саломея, если бы была возможность, если бы ты хотела…
— Что?
Он взглянул на нее удивленно и растерянно.
— Разве ты не понимаешь, о чем я говорю? Я часто представлял себе, как это будет. Тихий домик у берега моря… Тенистый сад… Чистый ручей… Тихий шелест деревьев вдали от шума и суеты, и среди всего только мы двое. Только ты и я, я и ты!
— Римлянин и иудейка?…
Она проговорила это беззвучно, без горечи, но в голосе ее было что-то бесконечно печальное.
— Об этом я тоже думал, — поспешно сказал он. — Я много думал, с тех пор; учение греческих и римских философов, таинственные мистерии египтян, они меня не удовлетворяют, мне чего-то в них недостает, нет в них глубины. Может быть, я нашел бы это в твоей вере…
На ее лице отразилось глубокое волнение. Как он ее любит! Но теперь слишком поздно…
Она вздрогнула и закрыла глаза. Флавий Сабиний взял ее за руку. Его мягкое прикосновение было ей приятно. Она еле смогла удержаться от слез, ее тонкая рука была неподвижна и холодна как лед; пульс едва бился. Но ожившее вдруг лицо пробуждало в нем надежду.
— Знаешь, — сказал он, — несчастье, постигшее тебя и твою семью, показало мне всю глубину моей любви. Я прежде никогда не чувствовал злобы. Этерний Фронтон — первый человек, которого я возненавидел. При одной мысли об опасности, угрожающей тебе, я весь дрожал. Я бросился к Агриппе — вашему царю, а от него к сестре его Веронике. Она подала мне слабую надежду. Вернувшись с Кармеля, она позвала меня к себе, чтобы поговорить о тебе и о твоей семье. Она хотела упросить Тита, чтобы он отдал тебя и Тамару ей. Только с этой целью она и ездила на Кармель. Но ей не удалось выполнить свое намерение. Вероника все-таки обещала помочь, она предложила мне смелый план… В городе, занятом римскими войсками, никто не станет остерегаться нападения… Я сделал все приготовления и воспользовался случаем, чтобы прийти с Титом сюда. Я надеялся увидеть тебя или по крайней мере дать тебе знать каким-нибудь образом о том, что готовится…
Он замолчал. В первый раз Саломея взглянула ему прямо в лицо своими большими, глубокими, печальными глазами. В них дрожало отражение усталой души.
— А ты не подвергнешься опасности? — спросила она.
Ее участие тронуло и обрадовало его.
— Если бы моя жизнь понадобилась для твоего спасения, я охотно отдал бы ее за тебя! — воскликнул он. Он изложил ей план Вероники. — Все должно произойти в эту же ночь. Декурион Сильвий узнал, где содержатся Тамара и Саломея. Гликерию они подкупили. Они смогут уехать из Птолемиады без всяких препятствий. Один из людей Вероники, хорошо знающий окрестности, проводит их в горы, а там уже беглецы будут в безопасности и потом доберутся до Гишалы.
— Когда ты будешь далеко от меня, среди твоего народа, — закончил Сабиний взволнованно, — может быть, ты вспомнишь обо мне как о друге. И тогда, как только кончится война и снова наступит мир, тогда…
Она перебила его.
— А мой отец, — спросила она, — его тоже?…
— Невозможно освободить его из тюрьмы городской префектуры, — ответил он упавшим голосом: — Но я клянусь тебе памятью моей матери: я сделаю все, что в моих силах.
Тит и Фронтон поднялись.
— Нас сейчас разлучат, — сказал Сабиний. — Скажи, Саломея, ты готова?