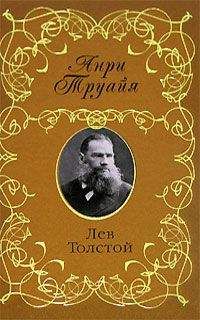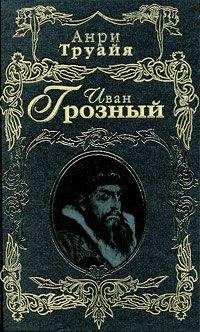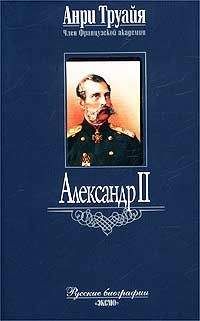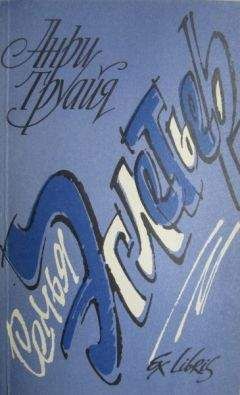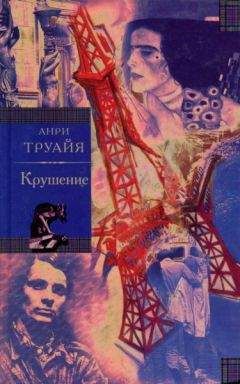Лев Толстой - Труайя Анри
«Бороться с половой похотью было бы в сто раз легче, если бы не поэтизирование и самых половых отношений, и чувств, влекущих к ним, и брака, как нечто особенно прекрасное и дающее благо (тогда как брак, если не всегда, то из 10 000 – 1 не портит всей жизни); если бы с детства в полном возрасте внушалось людям, что половой акт (стоит только представить себе любимое существо, отдающееся этому акту) есть отвратительный, животный поступок, который получает человеческий смысл только при сознании обоих того, что последствия его влекут за собой тяжелые и сложные обязанности выращивания и наилучшего воспитания детей».
Переписывая эти строки, Саша думала о том, как хорошо, что нет в ее жизни другой любви, кроме отца.
Настали настоящие весенние деньки, Толстой совершенно выздоровел. Тридцать первого он уже потихоньку прогуливался по заснеженному саду. Снова раздумывал о своих грехах, и о самом главном из них, живым воплощением которого был Тимофей, сын крестьянки Аксиньи. Она вышла замуж, но с него вины это не снимало. Тимофей был живым упреком, который постоянно находился перед глазами, забирался на свое кучерское место и спрашивал: «Куда прикажете вести, барин?» И законные дети, которые знали об этом, что думают они о своем отце? Развратник, сладострастник, дьявол. «Посмотрел на босые ноги, вспомнил Аксинью, то, что она жива, и, говорят, Ермил [Тимофей] мой сын, и я не прошу у нее прощенья, не покаялся, не каюсь каждый час и смею осуждать других». [652]
Выздоровление омрачено было отъездом Черткова, которого высылали из Тульской губернии за «подрывную деятельность». Узнав об этом решении шестого марта, тот решил отложить переезд до конца месяца и удалился к своим теткам в Крекшино, недалеко от Москвы. Софья Андреевна в глубине души была рада этому, но сочла нужным публично выразить протест против решения властей. Толстой умилялся благородством жены – если бы только она могла подняться над самой собой. Но в окружении Льва Николаевича задавались вопросом, не ее ли рук дело – высылка человека, которого так смело теперь защищала. Письмо графини адресовано было в российские и иностранные газеты. В нем говорилось о новом акте насилия, который потряс всех местных жителей, что преступление Черткова очевидно – его дружба с Толстым, преданность учению Льва Николаевича. Но ведь идеи эти – не убий, не отвечай насилием на зло, прекращение кровавых действий. Она обращала внимание на то, что высылка Владимира Григорьевича и наказание тех, кто осмеливается читать и давать читать другим произведения Толстого, свидетельствуют о ярости, проявляющейся так мелочно, против старика, который своими творениями умножает славу России. И все знают, как Лев Николаевич любит Черткова. Софья Андреевна отмечает в этом письме, что внимательно наблюдала за его жизнью и обращением, и хотя не разделяет большую часть его воззрений и воззрений мужа, особенно в том, что касается Церкви, уверена: усилия Черткова всегда были направлены на то, чтобы люди совершенствовались нравственно, чтобы между ними воцарилась любовь, что не раз отговаривал он молодых крестьян от революционных действий, предостерегал от любого насилия.
Ни протесты Софьи Андреевны, ни вмешательство влиятельных друзей ученика Толстого ничего не изменили. «Мне не хватает Черткова», – с грустью замечает в своем дневнике Лев Николаевич (15 апреля 1909 года). Он томится, как покинутая женщина. Графиню это беспокоило – нервы ее были совершенно расстроены, она ни секунды не могла сидеть спокойно, принимать участие в разговоре, читать. Жизнь казалось ей полной неразрешимых проблем, и стоит присесть, как болезни, нужда навалятся на близких. Чтобы отвлечься, Софья Андреевна фотографировала, на всех подоконниках стояли ванночки с реактивами. Перебегая от одной к другой, графиня сетовала, что Левочка устроил себе легкую жизнь, от всего устраняется и потому спокоен.
Внутренне сжавшись, но молча и терпеливо ждал Толстой, когда минует очередная гроза. Беспрестанная суета жены вызывала и гнев, и жалость. Ему так многое хотелось ей сказать! Но стоило открыть рот, она начинала противоречить, разговор превращался в спор. Чтобы облегчить сердце, сохранив при этом покой, Лев Николаевич стал писать посмертные письма.
«Письмо это отдадут тебе, когда меня уже не будет. Пишу тебе из-за гроба с тем, чтобы сказать тебе, что для твоего блага столько раз, столько лет хотел и не мог, не умел сказать тебе, пока был жив. Знаю, что если бы я был лучше, добрее, я бы при жизни сумел сказать так, чтобы ты выслушала меня, но я не умел. Прости меня за это, прости и за все то, в чем я перед тобой был виноват во все время нашей жизни, и в особенности в первое время. Тебе мне прощать нечего, ты была такою, какой тебя мать родила, верною, доброю женой и хорошей матерью. Но именно потому, что и не хотела измениться, не хотела работать над собой, идти вперед к добру, к истине, а, напротив, с каким-то упорством держалась всего самого дурного, противного всему тому, что для меня было дорого, ты много сделала дурного другим людям и сама все больше и больше опускалась и дошла до того жалкого положения, в котором ты теперь». Письмо это так и осталось неотправленным.
В июне Толстой уехал погостить к Сухотиным в их имение Кочеты. Сопровождали его Софья Андреевна, Маковицкий, Гусев и кто-то из слуг. На станции ожидал экипаж, запряженный четверкой прекрасных лошадей. По дороге Лев Николаевич заметил, что крестьяне снимают шапки и кланяются, завидя их. «Я бы на их месте плевал бы, когда видел этих лошадей и эти огромные парки, когда у него нет ни кола, чтобы подпереть сарай», – сказал Толстой Гусеву. А после записывал в дневнике: «Особо живо чувствовал безумную безнравственность роскоши властвующих и богатых и нищету и задавленность бедных. Почти физически страдаю от сознания участия в этом безумии и зле… Простительна жестокость и безумие революционеров… французские языки и теннис, и рядом рабы голодные, раздетые, забитые работой. Не могу выносить, хочется бежать».
Но не убежал, напротив, так понравилось, как его холят, балуют, уважают в доме дочери и ее мужа, что Софья Андреевна вернулась в Ясную Поляну одна. Таня скрыла от матери, что в Орловской губернии, недалеко от Кочетов, решил обосноваться Чертков. Толстой пишет жене, что планы его не определены, так как не знает, сумеет ли увидеться с Чертковым. Наконец любимый ученик снял избу в деревне Суворово в трех верстах от Кочетов. Едва узнав об этом, Лев Николаевич верхом поскакал через лес к родному человеку. «Радостное свидание с ним». Толстой приезжал к нему не раз, все с тем же радостным возбуждением. Отъезд откладывался, Софья Андреевна проявляла нетерпение. Третьего июля, без особого желания, ее муж пустился в обратный путь, в Ясную.
Встреча вышла бурной: графиня с порога стала упрекать Левочку, что он виделся с Чертковым за ее спиной; потом перешла к его решению принять участие во Всемирном конгрессе мира, который должен был состояться в Стокгольме. Толстой пытался объяснить, что должен воспользоваться этой возможностью, дабы во весь голос заявить о том, о чем никто не решается говорить. Жена возражала, в его годы, уверяла она, нельзя отправляться так далеко, устанет от путешествия, официальных приемов, конференций. Как всегда в спорах с Левочкой, при малейшем его несогласии Софья Андреевна повышала голос, рыдала, стенала. У нее началась невралгия в плече, она обвиняла в этом мужа, требовала отказаться от участия в конгрессе. Толстой объяснял – это его долг. В ответ крик: жестокий, безжалостный человек. «Если бы она знала и поняла, как она одна отравляет мои последние часы, дни, месяцы жизни!» – записывает Лев Николаевич двенадцатого июля.
Саша поддерживала отца, но кто знает, не делала ли она это исключительно потому, что мать была против. И если бы Софья Андреевна настаивала на поездке в Стокгольм, не стала бы Александра отвергать эту затею. Толстой не знал теперь, что думать, что предпринять, но, следуя собственным убеждениям, сочинял послание делегатам конгресса, в котором говорилось о несовместимости христианского учения и военной службы.