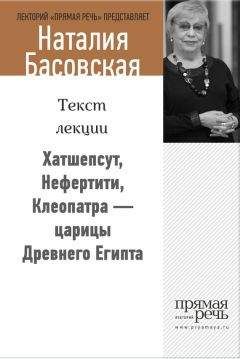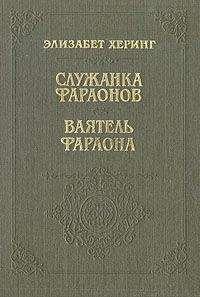Гарри Табачник - Последние хозяева Кремля
— Чего же ждать? — спрашивает один из литовских лидеров. — Полки пусты и с каждым днем становятся пустее. В Союз мы не входили. Нас туда затянули силой.
Консерваторы требуют принятия суровых мер. Это происходит 25 декабря, как раз тогда, когда диктор румынского телевидения, объявляя о расстреле Чаушеску, говорит: „В день Рождества Христова Антихрист сгинул”.
Удивительно, но призывавшие к расправе с литовцами урок из
этого не извлекли, они никак не могли поверить в то, что такая же участь может постигнуть и их, что тот, кто отдает войскам приказ стрелять в свой народ, может сам окончить свою жизнь у стенки. Однако Горбачев после Тбилиси, видимо, сделал некоторые выводы.
— Я не запачкаю руки в крови, — отвечает он требующим принятия против литовцев жестких мер.
До ввода войск в Баку остается еще месяц.
В Вильнюс звонит А. Яковлев.
— Над головой Горбачева собираются тучи, — пытается повлиять он на Бразаускаса. — Перестройка под угрозой.
Литовцы от своего не о ступают. Выход из положения подсказывает Ельцин. Пленум принимает его предложение и поручает отправиться в Литву самому генсеку. Его прибытию предшествовала 300-тысячная демонстрация, потребовавшая немедленного восстановления независимости, но которую московское телевидение поспешило объявить не выражающей чувств большинства. О том, каковы эти чувства, Горбачев сумел убедиться сам, когда его лимузин останавливался на улицах литовских городов. Всюду было одно и то же. Те же требования свободы и независимости.
— Кто вам дал этот плакат? — резко спрашивает он у пожилого рабочего, встретившего плакатом с надписью „Независимость”.
— Никто мне не дал, — был ответ. — Я сделал его сам.
— Почему вы требуете независимости? — не унимается московский гость.
— Я родился в независимой стране и хочу умереть в независимой стране, — ответил рабочий, как и многие литовцы не забывший ни о гарантированной в 1920 г. Лениным независимости своей страны, ни о партизанской войне против советской оккупации отрядов „Железного волка”, „Кестутиса” и Литовской армии свободы. По официальным данным она продолжалась с 1945 по 1952 год, но на самом деле длилась дольше. За свободу своей страны отдали жизнь 30 тысяч партизан.
— Вы знаете, сколько литовцев было послано в лагеря и погибло в Сибири? — не смущаясь, задал вопрос высокопоставленному гостю рабочий.
— Я не могу разговаривать с этим человеком, — в сердцах воскликнул генсек.
Столкнувшемуся с таким упорством Горбачеву не всегда удается сохранить улыбку, стольких очаровавшую на Западе. Он пробует убеждать: „Мы будем все решать совместно”, — обещает он в одном месте. В другом он призывает на помощь историю: „Нравится нам это или нет, но мы пятьдесят лет были вместе,”— увещевает он, забывая об оставленном этими 50 годами кровавом следе. Он по-отцовски уговаривает: „Ну, куда вы бежите? Почему вы бежите? Вы должны все продумать хорошенько”. Он ищет сочувствия: „Моя личная судьба зависит от вашего выбора”, — говорит он, прижимая руки к груди. Наконец, исчерпав все, мрачно предупреждает: „Не ищите конфликта. Это приведет к серьезным последствиям”.
Однако все напрасно. „Мастеру уличного театра”, как его назвали наблюдавшие за его выступлениями на улицах литовских городов западные журналисты, иной раз даже доводилось срывать аплодисменты. Но это было лишь вежливой похвалой находчивому противнику, а не выражением согласия с ним. Привыкшему к дипломатическим успехам советскому руководителю приходится вкусить горечь поражения при прямом столкновении с народом. Это настолько выводит его из себя, что однажды, не обращая внимания на вездесущих журналистов, он сердито бросает пытающейся успокоить его жене: „Замолчи”.
Все же он не теряет надежды, хотя у слушавших его создается впечатление, что предложить ему реально нечего и он отделывается пустыми обещаниями в надежде выиграть время. Обращаясь к членам ЦК отделившейся компартии, он предпринимает еще одну попытку:
— Совесть вам не позволит отделиться, — увещевает он, опять призывая пересмотреть принятое решение.
— Вы только говорите, но не слушаете, — бросает один из присутствующих.
— Я слушаю. Только я заранее знаю, что вы скажете, — пытаясь сохранить спокойствие, пожимает плечами генсек. Видимо, поездка не прошла напрасно, и он понял, что литовцев ему не переубедить. В ответ на заданный ему с места вопрос о том, как он относится к многопартийности, он, еще недавно объявлявший разговоры об этом пустой чепухой, сознавая, что повторение этого сейчас будет равнозначно катастрофе, вынужден отступить и ответить: „Мы не должны бояться многопартийности”.
Сказал ли он, как уже случалось не раз, то, что от него хотели услышать, оставаясь по-прежнему убежденным в преимуществах однопартийности, веря в то, что Советский Союз все еще можно сохранить сильной центральной властью, или мнение его действительно изменилось? Но если это так, тогда возникал вопрос, почему многопартийность должна ограничиваться только Прибалтикой? Ответа на этот вопрос пришлось ждать еще некоторое время.
Поездка в Литву еще раз показала неспособность генсека предвидеть исхода событий. Результат ее был предопределен заранее. Ясно было, что литовская компартия своего решения не изменит. Для нее это было бы лебединой песней и она потеряла бы все шансы завоевать хоть какое-либо число голосов на предстоящих выборах в Верховный Совет. Поездка не только не снизила накала страстей, но, наоборот, усилила их, поскольку литовцы получили возможность выразить свое стремление к независимости непосредственно самому Горбачеву.
Литва была первой ласточкой. Провозглашенная литовскими коммунистами цель — создание „независимого демократического литовского государства” привлекательная и для других республик. Заменит ли Советский Союз конфедерация или возникнет нечто, подобное бывшему Британскому содружеству народов или на карте мира вновь появится Россия в иных границах, еще не исследовавшая своих богатств, которых более чем достаточно, чтобы существовать без колоний? Ответить на все эти вопросы должно было теперь уже не очень далекое будущее. Одно было ясно — независимость прибалтийских государств явится Рубиконом, переход через который будет означать начало конца того Советского Союза, который существовал до сих пор. К февралю 1990 года все это стало очевидным.
Приближались выборы в республиканские и местные Советы. Во всех округах были выдвинуты кандидаты, конкурирующие с коммунистами, и опросы общественного мнения показывали, что партийных кандидатов ожидает сокрушительное поражение. Что же оставалось Горбачеву?
5 января 1918 года Ленин, прибыв в Таврический дворец, где собралось только что избранное Учредительное собрание, заявляет В. Бонч-Бруевичу: „Если мы сделали такую глупость, что пообещали всем собрать эту говорильню, то мы должны ее открыть сегодня, а когда закроем, об этом история пока помалкивает”. Отгадывать ленинскую загадку долго не пришлось. Учредительное собрание, в котором социалистическим партиям принадлежало 59,6% мест, а находившиеся уже у власти большевики располагали лишь только 24% всех депутатских мандатов, всего на 8% больше, чем буржуазные партии, не вызывало никаких симпатий у вождя, вовремя „забывшем” о том, что за семь месяцев до того, прибыв в „запломбированном вагоне” в Петроград, он гневно обрушился на тех, кто ему „приписывал взгляд, будто он против созыва Учредительного собрания”. На следующий день после его открытия, 6 января, Учредительное собрание по ленинскому приказу, как говорили тогда, используя вошедшее в моду после массовых большевистских расстрелов выражение, „списали в расход”. В 1990 году о повторении этого не могло быть и речи.
21 января в день смерти Ленина, словно знаменуя смерть и его партии, в Москве заканчивается двухдневная Всесоюзная конференция партклубов, участники которой из 103 городов и 13 республик образуют, пока еще в рамках КПСС, объединение Демократическая платформа”. Они требуют „коренной реформы КПСС в направлении подлинно демократической парламентской партии, действующей в условиях многопартийной системы”, и как говорит Ю. Афанасьев, ставят своей целью создание „совсем не похожей на КПСС демократической, гуманистической, политической партии”.
Как опытный политический деятель, Горбачев четко улавливает, куда дуют ветры. Он круто меняет свой курс, и, как объясняет иностранным корреспондентам в Москве представитель МИДа Г. Герасимов, следует известной максиме: если не можешь победить противника, присоединись к нему.
И вот, еще два месяца назад объявивший идею многопартийности глупостью, скрепя сердце согласившийся с ней в Вильнюсе, грубо оборвавший в декабре Сахарова, предложившего отменить статью шестую, нынешний наследник Ленина вынужден был ходом событий принять неизбежное. Он уединяется со своими советниками и вырабатывает новую платформу партии, которую и представляет открывшемуся 5 февраля 1990 года пленуму ЦК. Что же представлял собой тот форум, на котором предстояло развернуться партийным баталиям? Из 249 членов ЦК — 199, или 80%, составляли как действующие, так и ушедшие на пенсию чиновники высшего партийного ранга. Среди остальных — 32 рабочих и колхозника и 18 представителей интеллигенции. Подавляющее большинство — 179 человек — русские. Такой состав ЦК показывал, кому принадлежала реальная власть в партии и, следовательно, в стране. После пяти лет „перестройки” руководящий партийный орган не расширил ни представительства трудящихся, ни ввел в свой состав большее число „нерусских”, по-прежнему оставаясь элитарной организацией, выражающей имперские интересы доминирующей нации.