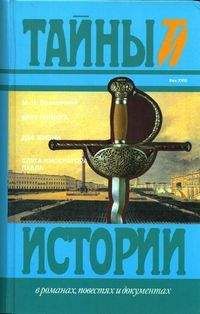Павел Загребельный - Я, Богдан (Исповедь во славе)
Француз Боплан, приглашенный для строительства Кодацкой крепости, проезжая через всю Украину, на что уж чужеземец, заметил всю неправду панскую и записал в своем диариуше: "Шляхта живет как в раю, а крестьяне как в чистилище, а если еще крестьянам придется попасть в неволю злому пану, их положение хуже положения галерных невольников - сия неволя многих из них вынуждает к побегу, а самые отважные устремляются на Запорожье".
Я выехал из Субботова, умоляя людей, землю и небо, чтобы оставили меня с моей раной, которая так неожиданно растравила сердце, ехал, не слыша, что происходит вокруг, вслушиваясь лишь в свою боль, но уже за Росью, когда сказал хлопцам свернуть на знакомый мне издавна, милый глазу моему хутор и не нашел того хутора, тогда ужаснулся и спросил сам себя: имею ли я право на собственную боль и могу ли прислушиваться к ней и не слышать стона и плача земли моей?
Золотаренков хутор был сожжен, разрушен, уничтожен. От домов - одни лишь стены, деревья обгорелые и изломанные, колодцы засыпаны, нивы вытоптаны. Уцелела лишь деревянная церквушка, она стояла нетронутая, и свечи горели на аналое, и отец Федор стоял на коленях перед иконами и молился.
- Как же так? - спросил я его.
- Налетели от пана комиссара казацкого Шемберка или от кого другого. Уничтожали и топтали все, как орда хищная. Может, за Ивана, убежавшего на Запорожье, и на твою Сечь, пан Хмель.
- Какая же моя Сечь, отче? Жаль говорить!
- Все разбежались с хутора, теперь и не соберешь, стар и млад. А я остался беседовать с господом да прислушиваться, не проскачет ли где-нибудь казак. Казак - сущая буря и ветер в поле. Мы, рабы божий, средь сего ветра подобны былинам божьим: гнемся, но не переламываемся, делаем свое дело. Господу благоугодно, чтобы мы были как розы среди терновника. Понеже без колючки ничего и доброго не будет.
- Хорошо молвишь, отче Федор. Был бы я гетманом, взял бы тебя своим духовником.
- А ты стань.
- Пошел бы ко мне?
- Почему бы не пойти к самому гетману? На такое сам господь бог благословит.
Я поцеловал ему руку и оставил разрушенный хутор, что был будто мое истерзанное сердце.
Тогда я спросил себя снова: доколе же все это будет, доколе?
Ехал дальше и собирал кривды. А попадались они на каждом шагу, летели слухами ко мне, приносили их люди, услышав, что еду в Краков, чуть ли не к самому королю, смотрели на меня с надеждой, как будто был не простой чигиринский сотник, а посланец небес или же сам спаситель. Избавлялись от несчастий уже одним тем, что рассказывали мне обо всем, что случилось, и никто не видел, как все тяжелее и тяжелее становилось у меня на сердце, и никто не мог угадать, как страшно ударит когда-то эта тяжесть по неправде.
За Черкассами услышал я о налете шляхтича Мисловского на лесную смолокурню. Люди Мисловского разрушали и опустошали все вокруг, челядь смолокурни ловили, избивали, стреляли. Мисловский со своими адгерентами-приверженцами поташ с ворохов рассыпал, захватил рогатый скот, волов и коров шестьдесят, овец пятьдесят, коз сто, коней девять, инструментов в шафарне - топоров двадцать семь, сверл двенадцать. А шафар от этой опасности едва успел, в чем был, с божьей помощю в добром здравии в лес уйти.
На Житомирщине жаловались мне селяне, что шляхтичи (лащевцы) Павло и Ян Серховецкие совершили налет на село Великие Старосельцы. Во время налета били, истязали и грабили крестьян. Бегая по домам, били саблями, палками, обухами и дубинками, истязали, до синяков и крови, Федора Костющенко, схватив, на коня его же усадили, под брюхо конское подвя ав ноги, палками, обухами, копьями и нагайками посекли; у Мартына клячу гнедую, купленную за сорок золотых, волов разной шерсти шесть, стоили сто двадцать золотых; у Анисчихи клячу тисавую, стоила сорок два золотых, у Макара клячу вороную с жеребенком, стоили золотых шестьдесят, волов пять разной шерсти, стоили золотых сто тридцать; а еще у Карпа, у Прохора, у Моисея, у Костючихи, у Ильи - клячи, волы насильственно забрав, к себе домой отправили и присвоили для собственной надобности.
Не довольствуясь этим, великими угрозами и похвальбой стращают тех, кто протестует; людей разных, осмеливающихся протестовать, на дорогах засаживают, огнем и сожжением грозят им и вообще похваляются опустошить, уничтожить, обратить в ничто маетности всяческих протестующих.
Во время шляхетского наезда на ходосовских крестьян, пахавших в поле, побили, их плуги попортили, а волов искалечили.
Снасти плуговые, ярма, колесницу - все дотла посекли, изрубили, попортили.
Крестьяне оставили вольную мелиорацию пану возному, чтобы записал в городские судовые книги. А что выйдет из этой протестации?
Жолнеры королевские, едучи в Киев, в Вольске и нескольких селах учинили насилие над мещанами и предмещанами, ограбили их, многих до смерти избили, а одну хозяйку в огонь втолкнули. Тащили все: баранов резали, вепрей откормленных били, гусей брали, кладовки разоряли, полти масла, сала и сыра на свои возы грузили, живность, разное зерно, возы букшованные, хомуты с набедренниками, железо плуговое, шкуры воловьи, топоры брали, сермяги, белье, как женское, так и мужское, шерсть в рунах, косы, мед пресный, жупаны и гусарские доломаны, шиптуховые кожухи тоже брали.
Из поместий Киселя, Вишневецкого крестьяне убегали из-за больших притеснений и грабежей немилосердных. Когда же шляхтичи заезжали в те села, где скрывались беглецы, то крестьяне не только не допускали к ним, но еще и били их.
В какой-то придорожной корчме жаловались мне на кривду уже и не простые люди, а два пана, тоже попавшие в такое село.
Пан Марциан и пан Бенедикт, как люди спокойные, ни перед кем и ни в чем не должные, ни в чем не повинные, имея всего лишь по одному челяднику, пару коней и коляску и коня подводного, ехали, и в каком-то селе жители, запомнив строгость права посполитого, с косами, заряженными ружьями, дубинами, обухами и палками, одни с огородов, другие с тыла, а третьи с улицы с громким криком и шумом окружив, начали бить, осыпая ядовито-срамными и нелестными словами, унижающими их шляхетское достоинство, громко выкрикивая при этом: "Бей!", "Убивай!", столкнули их с коляски, так что они, видя пыл хлопов, через огороды, мимо села пешком в лес от своего скарба - от коляски, коней, челяди, шкатулы, стрельбы, коберцов, ковров к речке бежали, а те хлопы, подобно разбойникам, нас гнали, а другие тотчас на коляску набросились, челядинцев наших поймавши, стащили их и дубинами, обухами позорно и безжалостно избили, замордовали, назад руки, как ворам, связав, все себе забрав и растащив: коляску крашеную, кованую, стоящую золотых пятьдесят; шкатулку, в которой было червонных золотых сто двадцать пять и монетой разной золотых двести; коберец аджамский, стоящий золотых шестьдесят; ковер турецкий, стоящий золотых пятнадцать; бандолей пара в коляске, стоящих золотых сорок; опунч новых две, стоящих золотых двадцать; бандолет на челяднике, стоящий золотых пятнадцать; коней пара в коляске, стоящих золотых пултретя ста; конь подводный гнедой, стоящий золотых сто двадцать; радик на коня, в нем было гривен серебра три; пистолетов пара, стоящих золотых тридцать; седло с платом и войлоком, стоящее золотых осьмнадцать; кляча под челядником, стоящая золотых восемьдесят; седло, стоящее золотых семь; пушорок с уздами, стоящий золотых шестнадцать.
Не оставили дело так, а пожаловались в городском суде, чтобы этих хлопов наказали за этот деспект, ибо как же иначе! Гультяйство следует заставить уважать права и придерживаться справедливости.
Я хотел было спросить: откуда же эти паны набрали столько добра? И сколько его у вас, когда вы, отправляясь в недальнюю дорогу, тащите с собой всякое богатство? Больше награбленного, чем нажитого, вот так, панове!
А кому об этом скажешь?! Канцлеру Оссолинскому? Королеве? Жаль говорить!
Мы ехали с королевским листом, проездным Litterae passus, который обеспечивал для нас ночлег, харч, корм для коней и всякое благоприятствование в пути. Письмо это, собственно, нам вовсе было ни к чему, ведь казак привык находить для себя все и без чьей-либо помощи, но мой Иванец Брюховецкий всюду ссылался на королевский вызов, заботясь уже не столько о всех нас, сколько, наверное, о самом себе, чтобы придать себе необычайный вес. Меня он в присутствии посторонних людей никогда не называл сотником, а только паном старшим, - это придавало веса не столько мне и моим казакам, сколько опять-таки самому же Иванцу, ведь если ты приближен к какому-то таинственному "пану старшому", имеющему королевские полномочия, ты и сам, выходит, человек немаловажный.
Между Иванцем и Демком, хотя оба они были моими джурами, не было ничего общего, кроме самой службы. В то время когда Демко послушно ехал рядом со мной, улавливая каждое движение моей брови, готовый кинуться в огонь и в воду за своего сотника со спокойным мужеством и бескорыстием, Иванец косил глазами во все стороны, высматривая - где, что и как, изо всех сил прикидывался внимательным и почтительным ко мне и ко всем, кто стоял выше; на самом же деле, как это со временем вскрылось, заботился лишь о себе и думал от самой колыбели только о себе. Жизнь моя складывалась так, что у меня не было ни времени, ни сил, ни возможностей пристально присматриваться к людям, изучать их глубже, как священник или судья, они проходили мимо меня то близко, то на расстоянии, проскальзывали тенями, порой лишь мелькали, были как бы не существами во плоти и во крови, а лишь печатью тех или иных достоинств и качеств, символами доблести, мужества, доброты, честности или, наоборот, коварства, хищности, ненасытности. Умирали возле меня, а я так и не знал до конца, кем были на самом деле, как не ведал и о тех, которые окружали меня не день, не месяц, иногда и долгие годы, был как ребенок доверчивый, наивный, легко обманываемый. Может, так и следует жить, а не вгрызаться в человека, как летучая мышь в кость, когда упадет на тебя с перепугу и отчаяния, что ослепла на миг, и вот схватилась за твой палец.