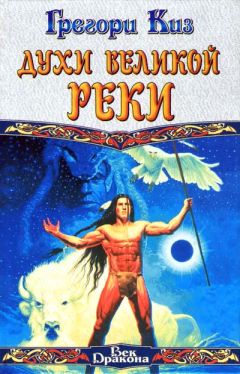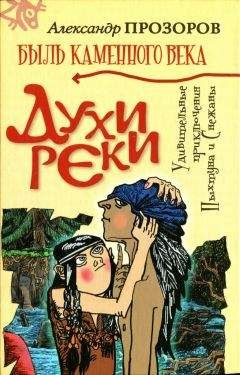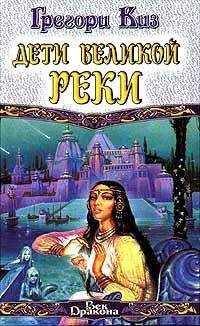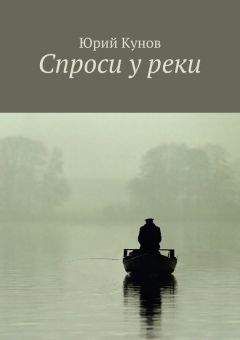Сергей Андреев-Кривич - Может собственных платонов...
Наслышан я уже был, что царь никакой работой не брезгует, и на руле умеет стоять, и топор держать. Однако в затылке я себе почесал. Поглядел на царя, потом на земляка взор перевел и говорю: «Ведомо, мол, мне, что великий государь, царь и великий князь Петр Алексеевич всея Руси с кузнечным делом хорошо справляется. Слыхивал. Только вот что ты мне скажи, не чужой ты мне человек, зачем это великому государю, царю и великому князю Петру Алексеевичу всея Руси по наковальне молотом что есть мочи выколачивать? Кузнецов, что ль, у нас не стало? Недостача ли? Сколь хочешь. Выходит — тешится царь, силушка по жилушкам переливается. Не для дела. Пошто руки царские надрывает?»
А мужичишко-то наш, прими, господи, душу его в царство праведных, умственный человек был, любил про всякое думать да умом доходить. И говорит он мне таковые слова: «А ты угадай». А сам ухмыляется. Отвечаю ему: «Сам ты угадал ли?» — «Покуда не до конца. Думаю. Вот и ты умом раскинь».
Пошел я к реке, по пути на царя поближе поглядел, сел в карбасок и поплыл к Курострову домой. И, прости, господи, мою душу грешную, думаю это я себе: все-таки балуется просто царь. Двадцать ему годков с одним. Дело молодое, перегорит. И что это такое земляк сказал: «угадай»?
В яствах сахарных, винах сладких ли у царей недостача? Покой да сон труд да заботу когда не побеждали? Надоест. В хоромы каменные сядет да на перинах пуховых сладко задремлет. А вышло не то. Всю жизнь на том продержался, на своем простоял. И не понял я тогда: глаза незрячие открывает людям царь. Увидал, значит, он: сон да покой в царстве, с места ничто не идет. Нужно поднимать жизнь. Петр с самого низу и взял и снизу и доверху все прошел делом-то своим. А не боясь черной работы, делал ее по любви и понимал: царским примером хоть кого проймет.
Тридцать годов и еще с лишком минуло. Государя Петра Алексеевича уже нет. Молоды вы, а я давно живу. Видел, что было до Петра, вижу, что им сделалось. Непохоже. И на многих боях был и по-другому державу устроил, морей и земель вон какую громадину прибавил. И имя русское другим сделал. Жизнь Петрова надо всей нашей землей прошумела, его дело все проняло.
В избу вошел сосед Луки Леонтьевича.
— О, ребят-то сколько вокруг тебя собралось, дедушка! Про старину им рассказываешь?
— Про нее. Про то, как государь Петр Алексеевич к нам приходил.
— И про Вавчугу, наверно?
— Про Вавчугу.
— Дедушка Лука, — спросил Михайло, — вот ты говоришь дело Петрово все на нашей земле проняло. А как и в чем к нему мужику приставать?
Дед Лука вздохнул:
— И кто это тебя, Михайло, такие мудреные вопросы учил задавать?
— Да ты же.
В разговор вмешался сосед Луки Леонтьевича:
— Прежде всего: государя Петра Алексеевича в живых боле нет.
— А дело-то его осталось?
— Осталось. Только дело прочней людей живет. Это раз. А еще: люди бывают разные. Есть бояре, есть дворяне, купечество живет, ну и наш брат мужик тоже по земле ходит. Мужик-то, может, и не ниже умом вышел, да вот… Ну, значит, Михайло, в своем мужику и приставать.
— Да… — протянул дед Лука.
— А что для мужика свое?
Дед Лука почесал в затылке и сказал:
— Митрич, ответь-ка ты. А то, знаешь, я уже говорил, говорил.
— Что для мужика свое? А что для каждого, что сможет взять, то и его. А еще вот что тебе скажу, Михайло: тот, кто наверху сидит, тот до своего-то пускать охотник не большой. Наверху-то послаще.
— Дедушка, — вмешался в разговор самый молодой слушатель, востроглазый парнишка лет двенадцати, — слыхать слыхал, а видать не видал. Каковы они-то, бояре да дворяне?
— Да люди как люди. И не отличишь. Только мужик трудами берет, а у них того нету.
— А как же вот в писании, к примеру, сказано, что без трудов нельзя? Они что, не понимают?
— Ишь ты — писание читаешь! Коли поймут, от того злее становятся. Ну, и, видно, не только что дел на земле, что трудов.
— А по правде такая жизнь?
— В одной сказке сказывается: взял мужик суму, пошел правды искать. Искал-искал да и притомился мужик, искавши. Может, прошел недалеко и не достиг той земли, где мужицкое счастье живет. Правда мужицкая не простая, да и мужицкие пути короткие.
— Мужицкие пути короткие? — спросил Михайло. — А кто их мерил?
— Было кому…
Гости Луки Леонтьевича стали подниматься и, поблагодарив старика, начали расходиться. Дед и Михайло остались вдвоем.
— А вот ежели я не только что перед знатными господами или какими земными владетелями, но даже перед самим богом всевышним дураком быть не хочу?
Дед Лука постучал о пол посохом, вскинул потом глаза на Михайлу, подумал.
— Давно уже тебе говорил: жить надо не начерно, а набело. Вот и оглядывайся да жизнь свою ищи.
Глава 10. В ДРУГУЮ ЖИЗНЬ
Дни становились короче, и все длиннее делались мглистые ночи. Солнце заходило, оставляя над задвинскими еловыми лесами багровую вечернюю зарю. Теперь уже не сразу рядом с ней вспыхивали светлые полосы рассвета. Ненадолго зажигались большие звезды — две-три, и становилось видно, как в небе идет ущербная луна. Это еще не ночь, но уже и не день, и дневные птицы чайки беспокойно летают над рекой и громко кричат.
В это самое время поднимается с Белого моря семга и идет на двинские устья. Миновав стерегущих добычу тюленей, плывет она вверх по Двине до устья Пинеги и далее, пробираясь на нерест[51]. Тихо в речной глубине проходят косяки драгоценной красной рыбы. В эту пору начинается долгожданный семужий промысел.
Над рекою падали сумерки. В свете костра у берега были видны деревянные поплавки сети, поставленной на ночь наперерез течению. Поплавки тихо била волна. Докатываясь до берега, волна бежала на песок и под ветлой, нависшей над водой, чуть слышно чмокала и пела в корнях дерева.
По соседнему высокоствольному осиннику пролетал лиственный шорох.
Когда костер вспыхивал и из него в темнеющее небо с искрами полыхал огненный язык, в красном свете выступали тонкие стволы деревьев и тускло блестели жесткие трепещущие листья осин.
Темнело. Сходила ночь. В озерных зарослях камыша, тростника и рогоза затрещит чирок-трескунок, не поладив с соседом по ночевке, свистнет умостившийся на кочке свистунок[52], подаст голос кряковая утка, забеспокоившаяся о своих утятах. Уток на Нальострове водилось невообразимое количество. По воде ударит большая щука, прошедшая по кругу за ночной добычей. Из-за реки по гладкой поверхности воды долетит волчий подлаивающий вой. И снова умолкнет уходившаяся за день птица, перестанет биться ушедшая в водяную глубь рыба, затаится и утихнет зверь, прислушиваясь или что-то выглядывая в темноте.
Нальостров, на поросшей лесом излучине которого облюбовал место Михайло, тонул постепенно в темноте и дымившихся от маленьких озер туманах. На низком, с заливными лугами и сочными травами острове этих озер было разбросано множество: Рушалда, Лыва, Паритово, Овсянка и другие. Лежавшие наискось через двинский рукав Холмогоры пропадали во мгле. Противоположное Нальострову нагорье, или матёрая земля — берег, за которым тянулись двинские земли, — уходило в сумеречную даль.
У Ломоносовых на Нальострове были свои пожни.
Михайло сидел у костра и смотрел в огонь. Под горевшими ветвями лежала красная груда жара, по краям она подернулась рыхлой кромкой пепла, по которому пробегали вспыхивающие огни.
По ночной реке долетела с другой стороны далекая песня. Кто-то затянул протяжную. Слов слышно не было, только напев медленно уходил в ночную тишину, замирал у лесной темной опушки.
Михайло прислушался.
«Один, видно, поет, — подумалось ему. — Сел где на берегу и поет».
Так и в самом деле поет одинокий певец: закрыв глаза, останавливаясь иногда на каком-либо слове, прислушиваясь к нему.
«Ночь темна, а бывает, будто дальше как-то ночью видится, и в своем дневном деле, случается, больше поймешь. Ночью судьба к сердцу ближе.»
Михайло лег на подостланный тулуп и стал смотреть в ночное небо.
Певец продолжал петь.
«И никто ему не нужен. Сам себя он слушает. Слова не доходят, а понятно: о судьбе поет».
Михайло закрыл глаза.
«Судьба? В чем она, судьба?»
И ему стало припоминаться, о чем он говорил на днях с Шубным и Сабельниковым.
…Когда Михайло и Шубный уселись у ветлы, что одиноко стоит на берегу, Шубный сразу приступил к делу:
— Вот что, парень. Делается с тобой что-то. Скажись. Таиться от меня не след.
— От тебя, дядя Иван, никак мне не таиться. Дело мое такое. Книги я свои, «Арифметику» и «Грамматику», читал и учился по ним. Ну, нравилось, занятно было. А вдруг понял, что вся моя жизнь в том, в науках. И больше ничего мне не надобно.
Шубный побил хворостиной о сапог.