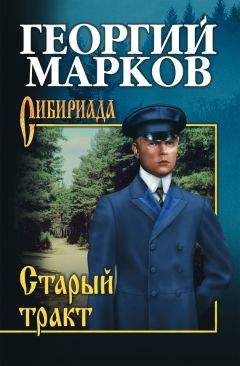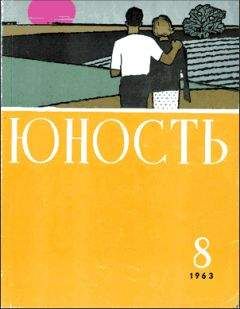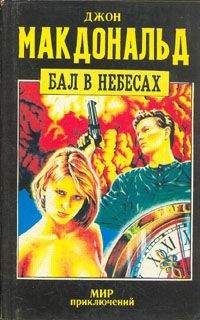Георгий Марков - Старый тракт
Особенно усердствовали в использовании зеркал сибирские золотопромышленники. Чем капитал был крупнее, тем больше был заказ на зеркала.
Один из купцов в Нерчинске привез из Парижа зеркало такой величины, что оно не влезло ни в одну дверь готового дома. Не задумываясь, плотники прорубили новые двери и зеркальную стену внесли в дом. Зеркало приходили смотреть все кому не лень, как на чудо. Еще бы! Чудо проделало путь в девять тысяч верст на подводах.
Спрос на зеркала, естественно, определял уровень и степень производства. Россия своей потребностью ощутимо поддерживала и французский капитал, и французских мастеров.
Не менее, а, может быть, более зависимым был Париж от России и в другой сфере — в модах. Одна французская дама, историк модельного дела, утверждала: Париж вырабатывал моды, а вводил их в обиход, как бы утверждал их жизнестойкость — Петербург.
Были случаи драматические для Парижа. Большой свет Петербурга не принимал по каким-то труднообъяснимым причинам новые модели, изобретенные изощренным талантом парижских модельеров, и тогда владельцы мастерских несли огромные убытки. Петербург обнаруживал безразличие к парижским новинкам, вкусы петербургских модниц, не жалевших на наряды громадных денег, выкладывали на поверхность такие капризы, которые не просто было понять. В Россию устремлялись самые опытные дельцы, чтоб взвесить ситуацию, вникнуть в подробности происходящего, спасти положение французских заправил моды.
…Луиза и Шубников снова стояли на площадке Воскресенской горы возле костела.
Правда, вечер на этот раз был иным, чем тот, первый вечер их откровенности. Дул ветер, раскачивая голые макушки тополей и черемух. Фонари, защищенные стеклами, были окутаны снежной порошей, и свет от них едва мерцал. Под стать фонарям и месяц светил робко, боязливо передвигаясь по темному небосклону.
— Мы жили на берегу Женевского озера. Там есть маленький богатый городок Веве. Папа с мастерами краснодеревщиками и зеркальщиками заканчивал отделку дворца одного коммерсанта. А мама болела и чахла у нас на глазах. Я училась в гимназии и помогала маме.
Целое лето мы жили в горах на далеком хуторе швейцарских крестьян. Но и это не избавляло ее от страданий. Осенью она скончалась, и мы с папой остались одни.
Вскоре завершилась отделка особняка. Можно было возвращаться в Париж. Там нас ждала бабушка — мать отца.
И вдруг все переменилось. Вместо Парижа мы поехали в Москву. Папа получил заказ на отделку особняка в Замоскворечье. И вот тут произошло неожиданное и страшное.
Луиза говорила тихо, медленно, рыдания подступали к ее груди, теснили дыхание. Шубников слушал ее молча, стоял, опершись на перила лестницы, не шевелясь. Давно уже он собирался расспросить Луизу о приезде в Сибирь, но она отводила этот разговор. Он понял, тут есть какая-то тайна, которую она бережет и не хочет посвящать в нее никого постороннего. Он попробовал даже обидеться на ее недоверие, но, подумав, осудил себя за нетерпение. «Не доверяет мне? А почему она должна доверять, разве у нее нет права на тайну? Потерпим. Ведь все существенное приходит в свое надлежащее тому время. Если полюбит меня по-настоящему, то наступит такой час, когда она сама, без всякого побуждения, расскажет об этом. А если не наступит, то — Бог ей судья», — размышлял Шубников. И вот этот час наступил.
Луиза сама заговорила о том, что еще недавно было недоступным ему. Он слушал ее, ликуя в душе. Она делала еще один шаг навстречу его чувствам. Значит, все шло, как идет у всех на этом свете: от замкнутости — к откровению, от недоверия — к преданности.
…Они поселились у купца Черноусова в его старом доме. Отец с утра до ночи вместе с другими мастерами проводил в новом особняке. Это был роскошный дом, каких в Москве было немного. Купец не жалел ни денег, ни материалов. Из Парижа везли ящики с зеркалами, из Италии венецианские стекла, из Китая и Индии — дорогое черное и красное дерево, жемчуг и перламутр.
Купец оказался старовер-раскольник. В доме царил жестокий порядок, хотя от посторонних это всячески скрывалось. Луиза с отцом, конечно, жила по-своему и их это не касалось. У купца была дочь — единственная наследница отцовских капиталов. Звали ее Секлетея.
Отец любил ее свыше всех мер. Но его любовь не спасла дочь от измены родительской вере. На отделке дома работал немец, мастер по металлу, католик. Он влюбился в Секлетею, и девушка ответила ему взаимностью.
Зная, что отец ни под каким видом не даст согласия на замужество с иноверцем, молодые люди задумала бежать за границу. И вскоре выполнили свой замысел.
Такой поступок по канонам раскольнической веры карался ссылкой виновницы в Сибирь, в глухой таежный скит. Но дочь была уже недосягаема. Отец ее сходил с ума. Целым собором раскольников ему было приказано любой ценой доставить дочь в скит. Вот тут и возникла мысль о подмене Секлетеи другой девушкой. Купец пообещал отцу Луизы немалые деньги за ее поездку в Сибирь под именем Секлетеи.
В это время у отца Луизы появилась новая жена, и она почему-то с первого дня невзлюбила падчерицу. Сама Луиза готова была на такой поступок. Жизнь становилась кошмаром под гнетом мачехи. К тому же она думала, что этим поступком поможет счастью Секлетеи, судьба которой очень волновала ее душу. Отец Луизы и отец Секлетеи обещали выручить ее из Сибири без дальних промедлений, и она в это поверила, как верят в легковесное обещание наивные, не испытавшие бед от коварства, молодые люди.
В Томске встретила и приняла Луизу с рук на руки мать Манефа… Ей, конечно, все было известно о Луизе. В иные дни она даже щадила новенькую от изнурительной работы. По-русски Луиза знала несколько слов и потому была выдана другим монашкам за немую.
Шубников представил скит, келью, мертвое безмолвие тайги, мрачное небо над лесом:
— Да ведь это пытка. Пытка на медленном огне! — он порывисто обнял Луизу, бережно прижал ее к своей груди.
Луиза доверчиво прижалась к нему. Они стояли молча и, может быть, стояли бы гораздо дольше, занятые своими раздумьям, если бы к ним не подошел загулявший мужчина.
— Ребятки, золотые мои, любовь прекрасное чувство, но не забудьте, что зима на дворе. Простуда принесет нездоровье, а любовь требует силы и удали. — Он добродушно захохотал и, покачиваясь от хмеля, придерживаясь за перила лестницы, скрылся в темноте.
20
Виргиния Ипполитовна навещала Белокопытова ежедневно. Он поправлялся медленно, тяжело, раны, особенно на ноге, то заживлялись, то вновь воспалялись. Федотовна приводила из разных деревень знахарку за знахаркой, но выздоровлению это мало помогало.
Угрюмые, молчаливые старухи шептали над Белокопытовым заговоры, брызгали на раны водой, умывали раненого через уголь — и все не впрок.
Белокопытов нервничал, кричал на старух, выгонял их из своего дома, требовал найти в Большой Дороховой старика — отставного солдата, в прошлом войскового санитара, лечившего, по слухам, все, от падучей болезни до сифилиса.
Наконец солдата нашли, привезли к Белокопытову в дом. Осмотрев раны, лекарь потребовал ведро воды и полведра отрубей. Размешал отруби с какой-то приправой из трав, и когда горячее месиво стало твердеть, сунул раненую ногу в ведро.
Белокопытов заорал благим криком на весь дом. Виргиния Ипполитовна в этот час занималась в пристройке с детьми. Услышав ужасный крик Ефрема Маркеловича, она кинулась вниз в спальню хозяина. Белокопытов лежал, закатив глаза, с каплями пота на лбу, закусив губы.
— Что вы делаете? Вытащите ногу из этого варева! — закричала Виргиния Ипполитовна на лекаря.
— Счас, барыня, счас ослабоню. Ешо просчитаю до пяти и… раз, два… — Солдат окаменело сидел на табуретке и в голосе его не было и намека на испуг. Он досчитал до пяти, вытащил ногу Белокопытова из ведра, округляя впалые щеки, заросшие седым волосом, принялся дуть на открытую рану, залепленную кусочками разварившихся отрубей. Когда солдат, получив от Федотовны плату за свой нелегкий труд удалился, а Белокопытов пришел в себя от перенесенной боли, Виргиния Ипполитовна снова пришла к хозяину.
Ефрем Маркелович лежал, чуть прикрытый в бедрах белым холщовым полотенцем. Постанывая, сказал:
— Уж вы извиняйте, встречаю в таком виде. Лекарь наказал лежать трое суток голым. От печного духа скорее, мол, затянет рану… Велю Федотовне топить печь с утра и до утра.
— Не беспокойтесь, Ефрем Маркелыч. Я ведь фельдшерица по первому образованию. Два года в больнице служила. Всего насмотрелась.
— Господи, и когда вы успели?
— Вот что, Ефрем Маркелыч: таким способом лечиться… это, знаете, невежество и варварство…
— Уж это так, — согласился он, и в голосе прорвалась усмешка.
Она окинула его крупное мускулистое тело и мысленно, помимо воли своей, сказала: «А задумали тебя родители ах как хорошо. Все до мизинчика в пропорции!»