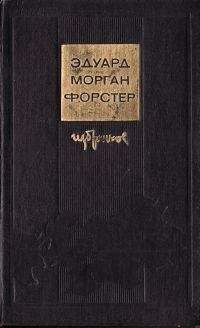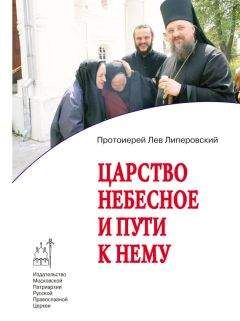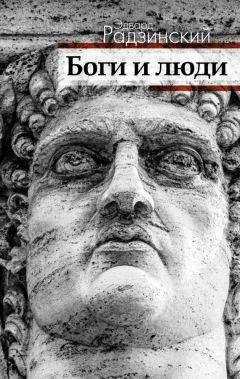Эдвард Радзинский - Царство палача
«Вы хотите, чтобы я ее сочинил?» – с восторгом перебил я.
Но герцог, этот идиот, только поморщился и сказал: «Да нет, сочинить ее сможет только один человек во всей Франции. Я говорю о Бомарше… Вы же должны явиться к господину Бомарше и рассказать ему про нашу идею. Я уверен, он с радостью примет наше предложение. Ибо мсье Бомарше нынче очень обижен королем…»
После чего он нудно изложил мне суть обиды Бомарше. И наконец перешел к главному:
«Короче, когда Бомарше примет предложение, вы тотчас привезете к нему вашу подругу с особенным лицом. Я уверен, он оценит возможности ее лица для нужной нам интриги, оно вдохновит нашего прославленного выдумщика. А вы… вы будете ему во всем помогать».
Какой удар по самолюбию! Я ведь был уверен, что они хотят помощи моего пера, что они прослышали о моем таланте! А они прослышали о моей шлюхе!
«А после того, как я переговорю с Бомарше…»
«Я понял, – прервал меня герцог. – Нет, дать вам сейчас свободу не в моей власти. После исполнения поручения вы, к сожалению, вернетесь в тюрьму. Но иногда будете ее покидать. Через вас мы намерены постоянно держать связь с мсье Бомарше. Но поверьте, недолго вам быть в тюрьме. Слабый режим накануне гибели. И вы поможете столкнуть его в пропасть. Жалкий король не должен управлять государством».
«И ты хочешь его сменить», – подумал я.
Герцог читал мои мысли, ибо они были банальны.
«Вы правы», – сказал он. Маркиз замолчал.
– И что же дальше? – спросил Шатобриан. Маркиз усмехнулся:
– Наконец-то я вас заинтриговал! Дальше… дальше я виделся с Бомарше несколько раз. И еще: я узнал, что Париж накануне восстания. И примет в нем участие не только народ – все эти безродные Фигаро, – но и принцы крови. Так что восстание обещало быть успешным… Вот почему уже второго июля восемьдесят девятого года, как только начались волнения в Париже, я радостно орал из окна своей камеры, призывая народ взять Бастилию – оплот тирании. Я кричал что-то о приказе убить всех узников… Уже собиралась толпа, когда меня оттащили от окна и без лишних слов увезли из Бастилии в дом для умалишенных.
Через двенадцать дней Бастилия пала. Так что можно считать – я начинал французскую революцию… во всяком случае, оказался среди ее первых жертв. Ибо когда народ взял Бастилию, он тут же беспардонно ограбил мою вчерашнюю камеру. Плод ночей, великий роман – мои «Дни Содома» попросту вышвырнули из окна. Мой свиток, мой мозг летал по улице! Как раз напротив Бастилии находился дом Бомарше, точнее, его дворец, куда меня столько раз привозили…
Старик вдруг остановился и спросил:
– Кстати, как вы относитесь к Бомарше?
– Я не был знаком с этим великим человеком.
– Великим человеком? Он был для вас великим человеком? Великим? – повторял маркиз с дребезжащим смехом. – Тогда моя история вас заинтересует… Я уже говорил: толпа, захватившая Бастилию, выбрасывала бумаги из секретного королевского архива, который там находился. Прямо на площади валялись древние пергаменты, указы французских королей с девятого века, великолепные старые Библии… И счастливая толпа плясала, топча их, оставляя на драгоценных бумагах следы нищих башмаков. Уже после революции я узнал, что Бомарше тоже поспешил на площадь. Он собирал эти бумаги. И я тотчас предположил: он подобрал и мой роман! Я бросился к нему… Наша встреча происходила тотчас посте моего освобождения. Как только я спросил его, и прежде чем он открыл рот для ответа, я понял: он взял!
Маркиз остановился задыхаясь.
– И что же? – спросил Шатобриан.
– Ничего. Бомарше все отрицал. Я умолял – он не отдал. Еще бы! Завладеть романом гения и отдать?.. Потом он бежал за границу. А я… я стал большим человеком, был назначен комиссаром Больничной ассамблеи, как «пострадавший при проклятом королевском режиме». Кстати, в те дни я мог легко отомстить родителям жены. Но я добр – трижды вычеркивал их из списка аристократов, отправляемых на гильотину. Об этом, конечно же, донесли. Мне пришел бы конец – ан нет, падение Робеспьера спасло меня от гибели… благодаря чему я и могу преспокойно обгладывать у вас цыплячьи косточки. Эту благородную помощь писателя писателю, проделавшему длинный путь пешком… Тогда, в дни революции, я даже сумел издать кое-что из того, что написал. Некоторые великие творения…
– Вы это уже говорили.
– Старческое… Впрочем, после революции Бонапарт сжег их. Все тираны заботятся о благопристойности, точнее, о границах загона, где должно содержаться стадо трусливых двуногих. Сочинения смельчака были ему противны. И вот тогда он отправил меня… Да, я не назвал вам свое последнее, нынешнее жилище. Я ведь живу в замке, как во времена моего детства. Правда, сей замок занимает теперь сумасшедший дом.
Маркиз усмехнулся и добавил:
– Простите за банальность, но вы не хуже меня знаете, что вовсе так называемые «великие эпохи» (а они на деле всегда самые страшные) сумасшедшие – единственно нормальные люди. Так что нас объединяет не только родство, то бишь мой родич аббат, когда-то трахнувший вашу бабушку, не только наше ремесло… но и Бонапарт. Ведь и вас деспот тоже преследовал. Кстати, нас объединяет и слава… Я, знаете ли, написал множество пьес, которые долго не мог поставить. Пока не попал в сумасшедший дом и там вместе с сумасшедшими – поставил. И, надо сказать, получил полное признание. И теперь, как и вы, упиваюсь своей славой…
Какое родство биографий! Даже в темах у нас много общего. Вы пишете о прелестях женщины, я тоже. Разница лишь в их местоположении. Ваши прелести наверху, воспетые мною – внизу. Ну и что?! Сколько раз, глядя на лица людей, я думал: почему можно ходить с голыми лицами, а к примеру, с голой задницей – нельзя? Кстати, воспетых вами индейцев интересовали те же проблемы. Когда европейцы впервые увидели индейцев, они спросили: «Почему вы голые?». Индейцы тотчас показали на лица вопрошавших: «Но вы тут тоже голые». «У нас здесь лицо», – ответили болваны-европейцы. «А у нас всюду лицо», – сказали мудрецы-индейцы… Так что мы оба с вами воспеваем Лицо. Именно наше сходство заставило меня прийти к вам…
Маркиз все блуждал в бесконечных рассуждениях. И опять какая-то сила не давала Шатобриану прервать наглеца. Как всегда, он терялся перед наглецами.
– Я ведь давно пытаюсь к вам проникнуть, – продолжал маркиз. – Первый раз я бежал из своей психушки, дай бог память, в тысяча восемьсот седьмом году. Вы жили тогда в роскошном отеле рядом с Тюильри. Ваши окна выходили как раз на площадь, где когда-то стояла гильотина. И, слоняясь около гостиницы в надежде с вами столкнуться, я вспоминал, как в дни революции ходил сюда смотреть казни. Помню, как король стоял на эшафоте… толстый, с выпадающим из-под белой рубашки животом… такой домашний… этакий добрый буржуа, который укладывается спать. И они уложили его отдохнуть на доску – шлюху-доску, на которой лежало, содрогаясь, столько тел. И нож гильотины прыгнул на его шею… А народ, еще вчера молившийся за болвана-короля, обезумев от счастья, весело мочил платки в королевской крови. Какой удивительный воздух был на площади! Только там, дыша этим воздухом, я до конца понял, что такое революция. Это наша тайная жажда насилия, не нашедшая удовлетворения в блуде и оттого вырвавшаяся наружу. Вот отчего на казнях всегда была и будет восторженная толпа – радостная, ибо она освободилась от бремени условностей!
Там были постоянные зрительницы, мы их называли «фурии гильотины». Они приходили в экстаз от крови и спали с палачами – мерзавки вслед за мной открыли для себя сладострастие, заключенное в боли. Я платил им, и они пускали меня в свои постели… обычно днем, когда были свободны от любовников-палачей. Посвященные, познавшие радость насилия и крови, они со страстью откликались на самые разнообразные фантазии.
Он наклонился и зашептал:
– У одной из них в комнате висела целая коллекция платков, смоченных в крови самых разных посетителей эшафота – от короля и королевы до Дантона и Робеспьера… Среди этих кровавых платков мы дошли до предела фантазий… Стена! Но я решил продвинуться дальше, я предложил зарезать ее. И она было согласилась… но дуре не хватило выдержки, опьянение прошло. Спохватилась! И этот сюжетец тоже мой вам подарок. Отдаю бесплатно – пригодится, вы ведь воспоминания пишете, как оповестили газеты. А мы все читаем в сумасшедшем доме… Но за историю, ради которой я к вам пришел – поверьте, историю удивительную! – мне уж придется потребовать с вас деньги. Они мне позарез нужны. Как я уже объяснил, всякая власть у меня отнимала свободу: Бурбоны, революция, Бонапарт… Кстати, ваш друг Людовик Восемнадцатый, вернувшись, посвятил целый час расспросам о моей судьбе и, выслушав мою историю, повелел оставить меня в психушке. Вот эпитафия, которую я приготовил для своей могилы: «Тирания вела с ним непрестанную войну. Под охраной королевского закона она едва не замучила его насмерть. И в дни террора революция попыталась увлечь его в бездну. И в дни империи он оставался ее жертвой. И возвращение Бурбонов не изменило его участи… Преклони колени и помолись о нем».