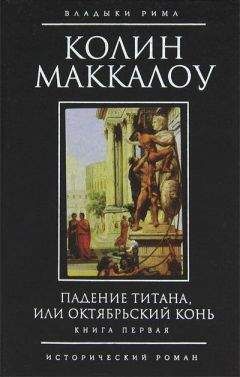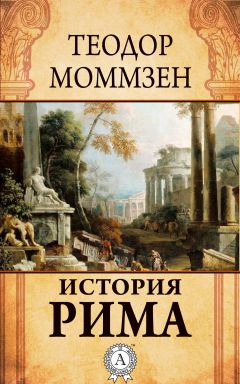Михайло Старицкий - Буря
Богдан прижал ее к себе горячо, до боли, и хотел было поцеловать в глаза, но Елена судорожно уцепилась за шею руками, и сдерживаемое рыдание вырвалось у ней из груди.
— Ты плачешь? Плачешь? Счастье мое, пташечка моя, ангел мой ясноглазый! — говорил растроганно Богдан, покрывая ее головку жаркими поцелуями. — Теперь я вижу, что тебе жаль твоего татка, теперь я вижу, что ты любишь меня! Ах, если б ты знала, какою радостью наполняешь ты мое сердце! Задохнуться, умереть можно от счастья! — вскрикнул он, прижимая ее к себе. — Что мне все вороги, когда я верю тебе, Елена?.. Ты говорила, что любишь только сильных; в этом ты не ошиблась, верь мне! И мы будем с тобою счастливы, потому что твое счастье — вся жизнь для меня!
Он припал долгим, долгим поцелуем к ее заплаканному лицу и затем заговорил торопливо:
— Ну, прощай, прощай, моя королева, моя радость, не тревожься, не думай… Будь весела и покойна, — перекрестил он ее. — Береги моих деток. — И, обнявши ее еще раз, он решительно повернулся и направился скорыми шагами на дворище, где уже давно его ждали.
— На бога! Постой… Мне надо… Я должна… Ой! — рванулась было к нему Елена, но Богдан не слыхал ее возгласов. От быстрого ее движения Юрась упал на землю; она растерянно бросилась к нему, и когда Богдан совершенно скрылся, прошептала: — Что ж, судьба! Что будет, то будет!
Все уже были на конях. Богдан вскочил на своего Белаша, и тот попятился и захрапел, почуяв на спине удвоенную тяжесть.
— Ну, оставайтесь счастливо! — снял шапку Богдан и перекрестился.
Спутники его тоже обнажили чубатые головы.
— Храни тебя и всех вас господь! — перекрестил их издали дед.
В это время Андрийко подбежал к отцу и, ухватясь за стремя, прижался головой к ноге.
— Тато, тато! Поцелуй меня еще раз! — произнес он порывисто, и что–то заклокотало в его голосе.
Богдан нагнулся с седла и поцеловал его в голову, а потом, окинувши еще раз все прощальным взором, крикнул как–то резко: «Гайда!» — и понесся галопом со двора в Чигирин.
X
По просеке между лесами Цыбулевым и Нерубаем едут длинным, стройным ключом козаки; червонные, выпускные верхушки высоких их шапок алеют словно мак в огороде, а длинные копья с сверкающими наконечниками кажутся иглами какого–то чудовищного дикобраза. Лошади, преимущественно гнедые, плавно колеблются крупами, жупаны синеют, красные точки качаются, а стальные иглы то подымаются ровно, то наклоняются бегучею волной. За козаками тянется на дорогих конях закованная в медь и сталь пышная надворная дружина.[12]
Впереди едет на чистокровном румаке молодой Конецпольский; на нем серебряные латы, такой же с загнутым золотым гребнем шлем… Солнце лучится в них ослепительно, сверкает на дорогом оружии, усаженном самоцветами, и кажется, что впереди движется целый сноп мигающего света. По левую руку пана старосты качается на крепком коне увесистый пан Чаплинский; он залит весь в металл и обвешан оружием; тяжесть эта ему не под силу, и он отдувается постоянно. По правую руку едет в скромном дорожном жупане на Белаше пан Хмельницкий; осанка его величава, взгляд самоуверен, на лице играет энергия; на правой руке висит у него пернач — знак полковничьего достоинства. За атаманом хорунжий везет укрепленное в стремени знамя; оно распущено, и ветер ласково треплет ярко–малиновый шелк; по сторонам его бунчуковые товарищи держат длиннохвостые бунчуки… В первом ряду козацкой батавы, на правом фланге, выступает бодро Тимко на своем Гнедке, а налево едет из надворной команды угрюмый Дачевский.
Жутко на душе у Чаплинского; что–то скребет и ползет по спине холодною змеей, а лицо горит, и расширенные глаза перебегают от одного дерева к другому, всматриваются в темную глубь… и кажется ему, что оттуда выглядывают косые рожи с ятаганами в зубах.
— Нас Хмельницкий ведет страшно рискованно, — не выдерживает и подъезжает к Конецпольскому подстароста, — на каждом шагу можно ожидать татарской засады в лесу, а мы растянулись чуть ли не на полмили… без передовиков… едем словно на полеванье; нас перережут, как кур…
— Пан чересчур уж тревожится, — отвечает с оттенком презрения староста, — наш атаман — опытный воин…
— Но можно ли ему вполне доверять?
— Пане, это мое дело! Наконец, я доводца в походе! — бросает надменно староста, и Чаплинский, побагровевший, как бурак, отъезжает, сопит и мечет вокруг злобно–пугливые взгляды.
Время идет; лесная глушь становится еще мрачнее; тихо; слышен мерный топот копыт, да иногда доносится издали крик пугача… Конецпольский, выдержав паузу, обращается с своей стороны к Хмельницкому, приняв совершенно небрежный равнодушный тон; его тоже интересует отсутствие авангарда и полная беззащитность отряда от нападений из леса.
— Ясновельможный пане, — ответил ему с полным достоинством Богдан, — татары сами боятся лесов и никогда по ним не рыщут, они держатся только раздольных степей. Независимо от этого у нас есть не только надежный авангард, но и с обеих сторон отряда пробираются по трущобам и дебрям мои лазутчики–плазуны… Раздающиеся по временам крики пугача или совы — это наши сигналы.
— Досконально! — воскликнул вполне удовлетворенный староста. — Хитро и остроумно! Я не ошибся в военной предусмотрительности и доблести пана и вполне убежден, что он оправдает их.
— Весь к защите края и к панским услугам, — снял Богдан шапку и, сделав ею почтительный жест, насунул ее еще ниже на брови.
К вечеру только начал редеть лес, открывая иногда широкие закрытые поляны…
— Не отдохнуть ли нам здесь? — обратился Конецпольский к Богдану. — Место укромное, люди отдохнут, кони подпасутся, да и нам полежать и закусить не мешает. Разбило на коне — страх!
— Как егомосци: воля, — улыбнулся слегка Богдан, — только засиживаться нельзя, с татарами главное — быстрота и натиск…
— На бога, вельможный пане, — взмолился к пану старосте Чаплинский, — отдых! Сил нет… изнурены… в горле пересохло… вся наша надворная команда едва держится в седлах!..
— Я прикажу, за позволеньем панским, — нагнулся почтительно в сторону Конецпольского Богдан, — остановить здесь полк, призову сюда и моих разведчиков… тут рукою подать до опушки.
— Отлично, — кивнул головой староста.
— Только, мой пане коханый, — не отставал Чаплинский, — подночуем здесь: утром как–то виднее, бодрее.
— Смерть–то встретить днем, да глаз к глазу не бардзо…[13] — подтрунил Конецпольский и сейчас же, соскочив с коня на руки своих гайдуков, снял латы.
Богдан, отдав приказания, углубился немного направо в лес, а Тимко налево. Раздались близехонько неприятные и резкие крики филина и совы; на эти крики послышались издали как бы ответные завывания пугача.
Вскоре на поляну вышли двое бродяг по виду.
— А Ганджа, братцы, где? — спросил их Богдан. — Ты ж, Чертопхай, был при нем?
— Вперед ускакал оглядеть степь… — обирал тот репейники и другие колючие и ползучие растения, облепившие и изорвавшие его одежду. — Он уже раз был на разведках и видел недалеко за лесом кучки татар; они тоже рыскали, чтобы вынюхать что–нибудь.
— Гаразд! — одобрил атаман. — Ступайте к обозу, выпейте по кухлику, да снова на свои чаты. Тимко, — кликнул он потом своего сына, — возьми с собой Ярему, да Гниду, да еще человек пять и отправляйся на опушку подозорить!
— Добре, батьку, — ответил бодро Тимко, счастливый данным ему поручением.
— Если встретишь порядочную купку татар, дай знать, а если собак пять–шесть, то попробуй подкрасться и заарканить кого–нибудь, а если пустятся наутек, то не гонись: татарина в степи и куцый черт не поймает.
— Добре, батьку атамане! — поклонился Тимко и ушел.
Козаки еще до наступления ночи зажгли в глубине леса костры; кашевары принялись варить кулиш; стреноженные, кони были пущены на поляну; в два круга вокруг табора расставлены были вартовые.
Из пышного старостинского обоза принесены были ковры и, подушки; отряд кухарей и гайдуков засуетился над вельможнопанскою вечерей, и вскоре на коврах появились дымящиеся и холодные блюда роскошнейших снедей, обставленных целыми батареями пузатых и длинношеих фляг и бутылок.
К магнатской вечере, кроме начальников надворной команды, был приглашен из козаков один лишь Богдан. Чаплинский все время упорно молчал и только согревал себя старым медом да подливал усердно венгерское одному из бунчуковых товарищей третьей хоругви, некоему Дачевскому.
Не успело еще панство повечерять, как раздался в просеке стук копыт, и в освещенном кругу появился Ганджа, держа поперек седла связанного татарина.
— «Языка», батьку, добыл! — проговорил он весело, соскакивая с коня и стягивая татарина; последнего била лихорадка, косые глаза его постоянно мигали и бегали, как у струнченного[14] волка; лицо от бледности было серо.