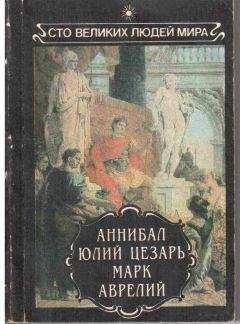А. Сахаров (редактор) - Екатерина Великая (Том 1)
– Ах ты, воробей, воробей! – вздохнул князь; он протянул руку, погладил Сашка по голове, затем взял у него лист из рук и выговорил; – Ну а вот это ты поймёшь или не поймёшь?
И князь, держа лист обеими руками у самого лица племянника, медленно и как бы аккуратно разорвал его на четыре части, потом на мелкие кусочки, а затем бросил на пол.
– Вот тебе! Какие Александр Алексеевич Козельский умеет колена отмачивать и фокусы показывать. Коли теперь я вдруг возьму да помру, что будет? Как, по-твоему?
– Не знаю, дядюшка!
– Как не знаешь? Да что же ты, совсем малый ребёнок? Ведь ты мой единственный родственник и к тому же родной племянник… Ну?
– Что ну-с?
– Да ведь всё же твоё будет!
Сашок глядел дяде в лицо и молчал.
– Чего же ты не радуешься?
– Да что же, дядюшка? Ведь это когда ещё будет! – спокойно произнёс Сашок.
– А-а, вон как! Так ты бы желал, чтобы я сейчас околел? Ай да крестник!
– Что вы? Бог с вами! – воскликнул тот.
– Потерпи, брат! Ещё лет десять проживу, а больше-то и трудно. Мы, Козельские, недолговечны. По крайности, теперь знай, что ты – мой единственный наследник. Ну а состояния-то у меня побольше того, что думают и толкуют люди. А если это всё так приключилось, то спасибо скажи Земфире… Это всё она…
– Как же Земфира? – тихо протянул молодой человек, совершенно поражённый.
– Так. Уж очень она постаралась, чтобы ты моим наследником оказался.
– Вот никогда не думал! – воскликнул Сашок. – Ей-Богу, не думал! А я, дядюшка, грешен, совсем не так думал. И уж если на правду пошло, то я вам доложу, что я совсем, как дурак какой, судил её. Я ещё вчера думал и с Кузьмичом толковал, что она меня хотела хитро так из вашего дома выжить. Не враждой и не таким поведением, как бы вот эта княгиня Трубецкая. А напротив, соблазнить хотела всячески, а затем так ласково да тихо обнести пред вами, свалить всё на меня и выкурить отсюда! А она вот что! Это я, выходит, пред ней виноват. Кругом виноват!
Князь, выслушав, стал смеяться звонким, добродушным смехом.
– Да ведь кто со стороны тебя послушает, – произнёс он наконец, – то прямо подумает, что ты дурак, отпетый дурак! А это будет неправда. Ты совсем не то… Ты доверчивый по честности своей. И простомыслие твоё – на честности зиждется… Ну а теперь слушай: никому ни слова о том, что читал здесь, и о том, что потом вышло. И Кузьмичу ни слова. Ну, ступай.
Когда Сашок уже выходил, князь крикнул:
– Стой! Забыл сказать. У нас в воскресенье здесь гости. Покажу тебе, что обещал. Картёж и игорных мерзавцев.
XX
– Как ни верти, всё одно выходит! – думал и говорил сам себе вслух Кузьмич по десяти раз за час времени. А длилось это целый день. – Как ни верти – или умница, каких мало на свете… или совсем пень, чурбан… Или совсем благополучие, или всё вверх пятками… Да, умник или пень?!
И старик всё не мог решить этой задачи. А называл он так себя же. Себя он спрашивал: умно ли он решил поступить и будет ли полный успех. Или он, поспешив, глупость сделает, и всё пропадёт от спешки.
Дело в том, что старик решался на отчаянное средство, на нечто неслыханное и невиданное. Причин для такого удивительного поступка было много. Прежде всего было позднее соображение, что мир питомца с дядей принесёт, пожалуй, несчастие. Большое знакомство, разъезды по Москве и при этом «аграматные» деньги, полученные от дяди, почти преобразили питомца его, и он окончательно «отбился от рук»!
Как старик ни просил своё «дитё» ездить к Квощинским, где барышня «помирает от любви», Сашок только два раза заехал к ним, и один раз, правда, провёл целый вечер. Так как было много гостей, играли в жмурки и горелки, то было очень весело… Но Таню всё-таки он находил: «Ничего. Что же? Девица как девица».
А это отношение питомца к избраннице старика бесило его, так как он надеялся, что Сашок скоро будет без ума от «ангела и херувима».
Наконец, Кузьмич вдруг узнал, что «дитё» было уже три раза в семействе какого-то князя Баскакова, и, справившись, узнал, что князь этот картёжник, разорившийся кутила и запивающий, жена его чистая ведьма, а дочь их, привлекающая Сашка, на прошлых святках одевалась форейтором, ездила по комнатам верхом на стуле и, наконец, подвыпила, веселясь с своими горничными. «Вот тебе и княжна?!» И Кузьмич, перекрестясь, решил спасти «Сашунчика» от барышни-форейтора и от всяких иных бед, которые грозят теперь благодаря примирению с дядей.
Он знал своего питомца с самых первых мгновений его появления на свет Божий, знал лучше, и судил вернее, чем, казалось, самого себя. И на этом знании нрава Сашка старик и основал своё «редкостное», как сам он мысленно соглашался, предприятие. «Надо так подстроить, чтобы вышло, как поленом по голове!» – решил он.
Старик зашёл опять в Кремль помолиться мощам святых угодников. Затем прямо направился к Квощинским и, посидев с Марфой Фоминишной, объяснил, что желал бы повидать барина Петра Максимовича, чтобы «словечко закинуть», крайне важное.
Разумеется, он был тотчас позван к барину и, конечно, сам не подозревал, какого искусного лицедея изобразил собой.
Кузьмич объяснил Квощинскому, что надо решить простое дело, которое становится всё мудрёнее. Его питомец «помирает от любви», из-за Татьяны Петровны «сна и пищи лишился», и если пойдёт дело эдак, то он может и «свихнуться».
Квощинский, конечно, при таком известии просиял, но, однако, стал допрашивать и советоваться.
– Что же тут делать?
– Помогите, Пётр Максимович. Разрешите всё, – взмолился старик. – Мой молодец захворать смертельно может.
– Как же я-то… Что же я-то… – заявил Квощинский. – Обычай такой, Иван Кузьмич, с миром зачался, что молодец первое слово сказывает или его родители и родственники. А девица через своих ответствует. Либо «всей душой»… либо «спасибо за честь, извините». Вам, стало быть, надо заговорить, а нам только ответ держать.
– Вот я вам, батюшка, Пётр Максимович, сказываю, что мой князинька прямо помирает, а сказать вам или Анне Ивановне не смеет. И никогда, как есть, не скажет.
– Так как же? Что же тут делать? – беспомощно и озабоченно развёл Квощинский руками.
– Одно спасенье, Пётр Максимович! – заявил Кузьмич отважно и решительно, как бы своё последнее слово. – Вам надо заговорить. А он, мой князинька, умрёт – не заговорит.
– Что же мне сказать, Иван Кузьмич? Не могу же я…
– Прямо сказать… Кузьмич, мол, был, всё мне поведал про ваши чувства, и я могу только, мол, обнять вас и вам душевно ответить, что я счастлив. И всё такое-эдакое… Вы уж лучше меня знаете, что…
– Так? Прямо?.. – спросил Квощинский. – Прямо?.. Как если бы сватовство было от вас?
– Именно-с!.. – решительно воскликнул Кузьмич. – Начистоту! Прямо поцелуйтесь и скажите, что мы-де душой, если ты к нам всей душой. А я вот вам прямо, что сват какой, сказываю. Мой молодец помирает от любви. Он меня не отрядил к вам, потому что я всё ж таки его крепостной холоп, но знает, что я за него пошёл говорить, потому что он сам не может. Храбрости этой нет и никогда не будет. Ну вот я вам и сказываю.
– Что же, Иван Кузьмич… Пускай приезжает князь! Я ему слова не дам сказать, коли ему зазорно и робостно. Как приедет, обойму и к жене поведу, и дочь позову.
Кузьмич ушёл и, вернувшись домой, снова волновался, спрашивая себя, «умница я или пень».
Разумеется, в доме Квощинских от восторга всё заходило ходуном. Все были счастливы и нетерпеливо ждали завтрашнего дня.
К обеду вернулся и летающий всегда по Москве младший Квощинский. Ему тоже сообщили важное известие, и он тоже обрадовался, хотя и без того был радостно настроен. После обеда Павел Максимович не вытерпел и позвал брата переговорить в кабинет.
Он таинственно заявил, заперев двери:
– Дело моё ладится. Был я, братец, у Алексея Петровича и откровенно с ним беседовал. По всей видимости, граф будет непременно назначен после коронации опять канцлером, и я уж решил не просто просить заграничную посылку, а должность резидента российского в каком-либо малом государстве немецком. Для начала. А посижу эдак годика три и получу должность важнеющую, посланника к французскому королю или аглицкому.
– Не верится мне, братец, – мотнул головой Пётр Максимович.
– Почему же это, братец? Граф Алексей Петрович обещал.
– Не верится. Гляжу я, гляжу и вижу чтой-то чудесное… Все захотели в Москве в государственные мужи выходить. На что наш Макар Иваныч… Голубей разводил, турманов, всю жизнь… А тот раз мне говорит, что хочет в губернаторские товарищи проситься. По мне вот что: если всех желающих царице удовлетворить, то и мест у неё не хватит. А если таковые должности на всех учредить новые, то тогда будут управители, а управляемых не останется ни единого…
Павел Максимович ничего не ответил. Замечание брата, которого он привык считать, как «изрядного рассудителя» всяких важных дел, его озадачило.