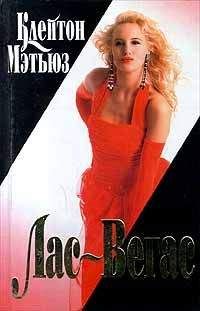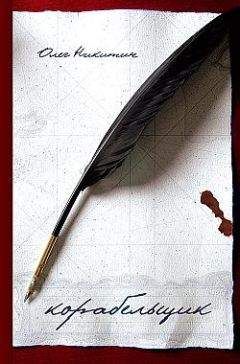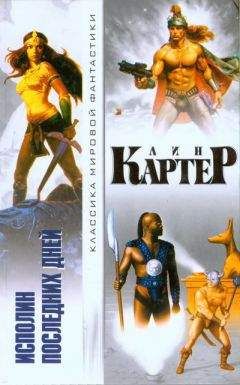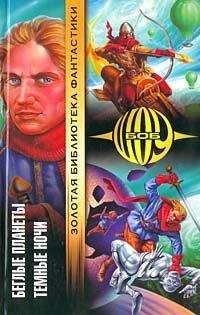Владислав Бахревский - Столп. Артамон Матвеев
— Пришло время нам самим разобрать, кто нам надобен! — взъярились староверы. — Ты ступай кушать куры рафлёные со своими турками да с блядьми патриархами восточными — с предателями благоверия.
Аввакумовыми словесами ругались, не зная, что батька их стал пламенем, в Серафимовых крыльях пёрышком.
Замахивались на святейшего, говорить не дали. Патриарху пришлось отступить.
Князь Михаил Юрьевич Долгорукий, защищая святейшего, вспомнил наконец, что он начальник над стрелецкими полками, ногами затопал:
— Как вы смеете?! Вон из Кремля! Чтоб духу вашего здесь не было. Не то велю всех — на колы! Всю стену Кремлёвскую колами вашими утыкаю.
Стало тихо. И не как в грозу: сначала молния, а потом гром. Сначала рёв, а просверк бердышей уж потом. Стрельцы, прорвавшиеся со стороны сеней Грановитой палаты, расшвыряв стражу и бояр, кинулись к ненавистному князю Михаилу, схватили, раскачали, кинули с крыльца. Стрельцы, стоявшие внизу, в едином порыве подняли бердыши и приняли на копья глупого своего начальника.
— Любо! — Кровь дождём кропила толпу. — Любо! Любо!
— Матвеева! — Это был уже не крик — визг поросячий.
Стрельцы кинулись к Артамону Сергеевичу. Он отшатнулся, взял царя Петра за руку, но ручка-то была детская.
Боярина потащили, сшибли с ног. Князь Черкасский кинулся на Артамона Сергеевича сверху. Стрельцы драли князя, как волки. Летели лоскуты кафтана, шапка в одну сторону, сапог в другую.
«Господи, зачем Ты меня не оставил в Лухе? — успел подумать Артамон Сергеевич. — Господи! Защити Андрея».
Тело боярина пронзили две дюжины копий. Кровь хлестала, как хлещет вино из бурдюка.
— Любо! — слышал Артамон Сергеевич последнее в своей жизни. Стенька Разин склонился над ним, заслоняя белый свет, кровавый, огромный.
Артамона Сергеевича кололи копьями, секли саблями.
Наталья Кирилловна, видя смерть воспитателя своего, кинулась бежать, увлекая за собою Петра.
— В церковь! В церковь! — кричала она то ли самой себе, то ли сыну.
Стрельцы, как муравьи, облепили крыльцо, обгоняли царя и царицу, изрубили вставших в дверях стрелецких полковников Юреньева и Горюшкина.
Царица и Пётр забежали в церковь Воскресения на Сенях. Рядом с государыней оказался её брат Афанасий.
— Господи! Прячься!
Афанасий потерянно озирался:
— Куда?
К нему подскочил карла Хомяк, потянул за собой в алтарь, показал под престол:
— Полезай!
И уже в следующее мгновение в церковь ввалилась толпа стрельцов.
— Царица, куда братьев подевала?!
Стольник Фёдор Салтыков загородил великую государыню.
— Да это же Афанасий! — обрадовались убийцы.
— Это Салтыков! — завопил Хомяк. — Это Фёдор!
Но копья уже вонзились в несчастного.
— Салтыков? — Убийцы склонились над бездыханным.
Кто-то сказал:
— Надо отослать тело к батюшке его, прощения у него попросить. Боярин Пётр Михайлович добрый человек.
Тело подняли, понесли, но другие убийцы набросились на Хомяка. Загнали в угол, принялись покалывать копьями:
— Где Афанасий?
Хомяк терпел, но беднягу подняли, содрали сапоги и держали над горящими свечами. Карла взвыл — указал на престол.
Афанасия вытащили, выволокли на крыльцо.
— Нарышкин! Любо ли?
— Любо! Любо! — кричали снизу.
Приняли Афанасия Кирилловича на копья, тело четвертовали.
Дворец, Терем — перевернули вверх доном: искали Ивана Кирилловича.
Убитых, растерзанных, кровавя кремлёвскую землю, весело волокли через Спасские ворота, на Лобное место. Встречным объявляли:
— Сё боярин Долгорукий едет!
— Сё боярин Артамон Сергеевич!
— Сё куски Афоньки Нарышкина!
Свечерело, а поиск продолжался. Все палаты, все чуланы обшарили у патриарха. Забрались в алтарь Успенского собора. Наконец попалась рыбка. Возле Чудова монастыря схватили князей Григория Григорьевича Ромодановского и сына его Андрея. Собирались из Кремля уйти.
— Изменник! Изменник! — кричали стрельцы бывшему своему воеводе. — Чигирин туркам ради сына сдал. Помнишь, как голодом нас морил под Чигирином-то? А как турки сказали тебе: не отдашь Чигирина — голову сыночка своего получишь, так и послушным сделался. Басурманов слуга — вот ты кто!
Закололи обоих, отца и сына. И туда же, на Лобное.
Лариона Иванова стрельцы вытянули из печи, в дымоход забрался.
Ларион одно время заведовал Стрелецким приказом, был строг к провинившимся.
— Ты нас вешал, не жалел. И мы тебя не пожалеем.
Исполосовали саблями, дом разграбили. Нашли засушенную каракатицу.
— Вот она, змея! Сей змеёй сатана Ларион отравил царя Фёдора Алексеевича! Расступись! Расступись! — кричали кровавые весельчаки, волоча тело к Лобному месту. — Сё думный едет! Вон какое чело!
Отряды стрельцов рыскали по городу. Стольника Ивана Фомича Нарышкина схватили за Москвой-рекой, у соседа прятался. На бердыши подняли. Отнесли на Красную площадь, оповещая об удачной охоте:
— Ещё одним Нарышкиным меньше.
Кому-то взбрело в голову идти к князю Юрию Алексеевичу Долгорукому, передать тело сына, заодно покаяться: погорячились.
Старик не дрогнул перед осатанелым воинством. Сошёл с крыльца, поцеловал залитый кровью лоб чада милóго. Соединил рассечённый надвое подбородок. И долго потом смотрел на руку, на шматок запёкшейся крови. Сказал стрельцам, показывая ладонь:
— Липко...
Стрельцы стояли кругом, будто волки — кинуться не кинуться? Князь отёр руку о полу кафтана.
— Горе мне горькое... За грехи. Господь дал, Господь взял, — поклонился стрельцам. — Спасибо, что не больно-то уж ругались над боярином.
Братва, стоявшая впереди, опустилась на колени:
— Прости нас, Бога ради, Юрья Алексеевич.
Князь повернулся к слугам:
— Несите покойного в дом! — Стрельцам сказал: — Вас Бог помилует. Помяните Михаила Юрьевича... Приказчик! Василий! Отопри погреб с вином. Ничего не жалей.
Стрельцы, гогоча, кинулись толпою к питию. Бочонки с драгоценным рейнским, с вишнёвкой, с медами, с наливками, с пивом выкатывали наружу, вышибали крышки, черпали шапками, хлебали прямо из бочонков.
Стрелец, заводила мятежа Кузьма Чермный подскочил к Юрию Алексеевичу, всё ещё стоявшему на крыльце:
— Князь! Коли ты вправду простил нам грех, выпей с нами!
Тыкал под нос Долгорукому деревянную колодезную бадью, полную вина.
Юрий Алексеевич снял шапку, перекрестился, сказал Кузьме:
— Ты бадью-то сам держи. Уроню.
Наклонился, выпил сколько мог.
— Ты — молодец, князь! — похвалил Чермный и крикнул стрельцам: — Старик не лукавит!
Одни уже повалились замертво наземь, другие горланили песни. Двор пустел.
Князь вошёл в светлицу.
Покойный лежал уже в гробу, горели свечи, рыдала вдова.
Юрий Алексеевич подошёл к невестке, взял за плечи, поцеловал в затылок.
— Не плачь! Не бабься, княгиня! Щуку они съели, но зубы щучьи остались. Висеть им всем на зубцах Белого да и Земляного города!
Сел на лавку, в изголовье убиенного. К нему подошёл его постельник:
— Поспал бы ты, Юрий Алексеевич!
Стон вывалился из груди старца:
— Господи, зачем я до сего дня дожил? — Дотронулся до руки постельника: — Воды принеси. Мне бы на столе-то лежать, уж так я устал. А лежит Михайла Юрьевич. Где же ты был, Архангел Божий, когда сынишку-то моего копьями, как медведя, пыряли? Куда ты подевался в жестокий час, ангел-хранитель?
Что-то ухнуло, качнулись свечи: на пороге светлицы стоял Чермный. За его спиной товарищи его.
— Ну-ка, покажи свои зубы, Юрья Алексеевич! — Чермный достал из-за пояса нож. Ножом приподнял верхнюю губу князя. — Братцы, а он и впрямь зубастый! Восемьдесят лет, а зубы как орешки.
Стрельцы вваливались и вваливались в светлицу.
— Щуку бы мы тебе простили, великому воеводе. Да на зубцах не хотим висеть, ни в Белом городе, ни в Земляном. Прощай, Юрья Алексеевич! Замолви за нас словечко Господу Богу.
Воткнул нож снизу вверх, под рёбра, чтоб до сердца достал. Но князь был жив, его подхватили под руки, вытащили на крыльцо, с крыльца кинули в толпу. Кололи, секли.
— До площади-то Красной далеко! — заленился кто-то из стрельцов.
— Ему и в навозной куче будет хорошо, — догадался Кузьма Чермный. — Над червями теперь будет начальствовать.
Труп отволокли на скотный двор, подняли на вилы, бросили поверх свежего навоза. Показалось мало: сверху накидали, расколотив бочку, солёной рыбы, приговаривали:
— Ешь, князь Юрья! Чай, вкусно! Это тебе за то, что наше добро заедал.
В ту ночь филины ухали в Москве. Собаки выли. Город провалился в кромешную тьму: жители не смели жечь огни — на человечьи лица смотреть боялись.