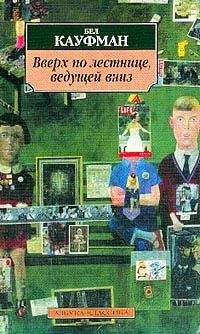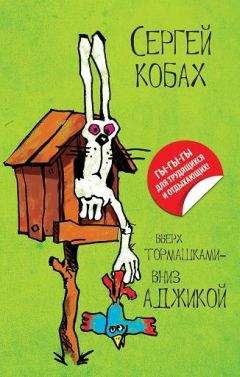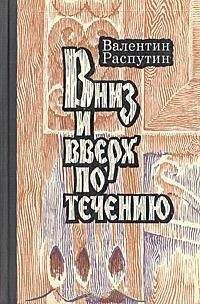Сэмюэл Блэк - Дарующие Смерть, Коварство и Любовь
— Леонардо, чем ты сегодня собираешься заняться? — крикнул он из кухни.
— Собираюсь повидать матушку.
Раздался звон разбившейся тарелки.
— Франческо? — Я вскочил и бросился в кухню.
Он стоял бледный, с пустыми руками.
— Что такое? Что случилось?
— Разве ты не получил мое письмо? Я отправил его на твой миланский адрес.
Черный вихрь закрутился в моей голове:
— Нет. А что в нем говорилось?
— Мне очень жаль, Леонардо… твоя матушка умерла.
Спокойный сердечный взгляд Катарины, любящая улыбка… мама, мне так не хватает вас, и я…
— Но вы говорили… в прошлом ноябре… вы говорили, что ей стало лучше…
— Так и было. Она пошла на поправку. Но потом болезнь вернулась. Она умерла в феврале.
Я опустился на стул, испытав внезапную слабость, и Франческо дал мне кружку вина.
— Меня не было двадцать лет, Франческо… и я не думал, что несколько лишних месяцев могут иметь столь большое значение. Мне хотелось приехать без предупреждения, сделать ей сюрприз…
Я удрученно покачал головой. Облегчающие слезы не увлажнили моих глаз. Я выглянул в кухонное окно.
— По крайней мере, кончился дождь. Я могу сходить к ней… ее похоронили в Кампо-Дзеппи?
— Да, во дворе деревенской церкви.
— Пойду почту ее память. Положу цветов на могилу.
— Может, ты не откажешься от компании?
Мне удалось выдавить улыбку. Если бы это спросил кто-то другой, я отказался бы.
— Да… спасибо, Франческо. Дружеская компания мне не помешает.
Мы идем по той самой тропе, по которой я сотни раз бродил в детстве. Сейчас тропу развезло от дождя, и пейзаж выглядел более однообразным и скудным, чем мне помнилось. Небо хмурилось синевато-серыми тучами. Мы долго молчали, и я погрузился в воспоминания… Как-то в детстве я бежал по этой тропе весенним утром; должно быть, мне было лет восемь или девять. Я тащил бутыль с маслом — подарок моей матушке от бабушки с дедушкой. Она недавно родила моего сводного брата. Я так радовался, думая о нашей скорой встрече, что пустился бегом по оливковой роще — той же самой оливковой роще, по которой идем теперь и мы с Франческо. Должно быть, я поскользнулся или оступился, и бутыль выпала из рук.
Стекло разбилось вдребезги, и масло впитывалось в землю…
Не помню, дошел ли я вообще в тот день до дома матушки. Мне запомнилось лишь ужасное чувство вины, и такое же я испытывал сейчас. Вечно я опаздывал к ней — так и не смог отдать ей сыновний долг. Плохой сын. Простите меня, мама.
На ее могилу положили небольшой камень округлой формы. На нем грубо высечены ее имя и даты рождения и кончины. Ничего больше — никакой эпитафии, никаких благодарностей от любящих детей или мужа. В сущности, она была лишь бедной деревенской девушкой, забеременевшей от местного нотариуса, а позже вышедшей замуж за рабочего, который нещадно бил ее. Как дитя любви, я стал ее любимым ребенком. Светом ее жизни, как она призналась мне однажды.
Никто больше в моей жизни не любил меня так, как она, — и никогда больше никто не полюбит меня так беззаветно…
Я положил на могилу букетик полевых цветов, нарванных тут же около памятного камня, и постоял немного, глядя на камень, под которым ее похоронили. Я пытался вспомнить ее лицо. Всплывали в памяти глаза, губы и волосы, но почему-то они не складывались в целостный образ, одновременно я видел лишь отдельные ее черты.
Лицо мне приятно холодил легкий ветерок. На траву под ногами легла тень, словно на нее пролили оливковое масло, — моя тень. Вокруг контура этой тени трава трепетала удивительно полной, прекрасной жизнью. Вдалеке по оливковой роще прокатывались яркие пестрые волны — это ветер играл в кронах, подставляя небесам нижнюю сторону листьев, которая всегда бледнее их верхней стороны. Ближе к нам над многоцветным луговым ковром пролетал тот же ласковый ветерок — и порывисто возвращался, чтобы насладиться красотой разноцветных волн. Я вздохнул полной грудью, едва не рассмеявшись при виде такой невероятно прекрасной картины. А ведь мы воспринимаем все это как должное! Опустившись на колени, я поднял глаза к небесам. Сероватая мгла прояснялась, обнажая лазурные шрамы. На востоке я заметил облако, подобное громадной горе, испещренной расщелинами сияющего света. Я тряхнул головой — если нарисовать эту облачную гору, то разве кто-нибудь поверит, что она написана с натуры, что такой мимолетный образ действительно существовал? Заявят, что это аллегория Господнего света. Но нет необходимости всячески почитать Бога и восхвалять Его в священных книгах, чтобы стать свидетелем чудес. Природа дарит нам их ежедневно. Нужно лишь, о несчастные смертные, открыть ваши глаза!
Увы, моя матушка умерла — ее красивая плоть стала пищей для червей. Но душа не подвержена тлению — гниению тела. Я верю, что душа бессмертна… но она обитает в теле, подобно воздуху в органных трубах. Когда трубка ломается, воздух перестает выходить из нее, порождая чудную музыку. Значит, когда плоть умирает, душа перестает петь. Ее молчание вечно. Однако Лукреций писал, что ничто не исчезает бесследно…
Я открыл книжицу, как обычно, висевшую у меня на поясе, и быстро набросал волосы моей матушки, ее глаза, контуры улыбки. Оценив получившийся эскиз, я увидел его словно отраженным в зеркале. Изображение было пока не совсем верным, но воспоминания оживут. Я уверен, они оживут.
Я обернулся к Франческо.
— Что случилось? — спросил он. — У тебя такой вид, будто ты только что увидел ангела!
— Я хочу написать ее, — ответил я. — Мне хочется обессмертить ее черты. Хочется вернуть мою матушку к жизни.
11
Имола, 12 февраля 1501 года
ЧЕЗАРЕ
Вечер во дворце. Я диктовал, Агапито записывал. Я подписывал, Агапито ставил печати. Конные курьеры увезли мои послания в ночь.
Я отправил письма моему отцу с требованием денег. Он считал, что я трачу слишком много, и он не в состоянии найти новые средства от продажи благословений и продажи кардинальских шапок. Причем вдобавок у нас будет больше преданных Борджиа кардиналов.
— Необходимо укрепить мои замки, — сказал я Агапито. — Кто у нас разбирается в военных укреплениях?
— Леонардо да Винчи, как известно, — ответил Агапито. — Флорентийский художник, вы познакомились с ним в Милане.
Да. Мне запомнились его глаза, его аура. Запомнилось, как лихо он отказал Луи. Художник, скульптор, музыкант. Да еще архитектор, ученый, изобретатель и военный инженер. Если бы мне удалось привлечь его…
— Пошли ему знак нашего особого расположения, — велел я Агапито. — Пора сделать ему предложение, от которого он не сможет отказаться.
В три часа ночи я встретился с дожидающимися аудиенции посланниками. Первый из Венеции. Мессер Маненти, напыщенный болван. Он передал мне прошение его правительства…
Молодая благородная дама Доротея Караччиоло… Отправляется завтра в Венецию… По моей территории…
Я милостиво распорядился выделить вооруженную охрану. Для сопровождения дамы. Дабы обеспечить ее безопасность.
Ее имя навевает особые воспоминания.
— Разумеется. Вы можете заверить ваше правительство. Все будет в порядке.
После ухода посланника я вызвал Диего, одного из моих камергеров. Испанца, моего верного друга. Он явился, приглаживая волосы, застегивая пуговицы.
— Похоже, Диего, я оторвал вас от приятного занятия?
Он усмехнулся. Преклонил колено. Поцеловал мне руку:
— Чем могу служить, ваше великолепие?
— Напомни мне имя той женщины, с которой вы развлекались в Урбино. Помнится, вы говорили, что она чертовски хороша…
— Доротея? О да, она подлинное сокровище. Причем малютка любвеобильна и страстна. Тогда ее как раз просватали за какого-то старого хрыча из Венеции, и она жутко злилась по этому поводу. Я же рассказывал вам, как она…
— Да, рассказывал, — с улыбкой бросил я. — Вы свободны.
Он почтительно поклонился, озадаченно глянув на меня.
Но ничего не спросил. Не его ума это дело. А моего…
Окрестности Чезены, 13 февраля 1501 года
ДОРОТЕЯ
Окна нашего экипажа занавесила ночная тьма, и я дремала, убаюканная его мерным покачиванием, когда вдруг снаружи раздался крик. Я подняла голову и прислушалась. Стефания, расположившись на сиденье передо мной, мирно посапывала с открытым ртом. Похоже, она совершенно выпала из земного мира.
Я рада, что она поехала со мной. По крайней мере, хоть какое-то утешение. В сущности, мое единственное утешение. Это замужество ужасало меня. По закону я уже его жена: Караччиоло, пожилой офицер, якобы влюбившийся в меня с нашей первой встречи в Урбино, но его лицо совсем не запечатлелось в моей памяти. (Мне показали портрет: седовласый, с военной выправкой мужчина. Его бледное тонкое лицо выражало исключительное самомнение. Он казался смертельным занудой!) Мой отец организовал венчание, заявив, что это для меня удачная партия. И, несомненно, меня ждет богатая и безопасная жизнь. Но как же не хочется тратить ограниченное время моей жизни, играя в карты и задыхаясь от разочарования и скуки в шикарно обставленных душных гостиных в окружении людей, слишком тупых даже для поддержания благопристойной беседы. Мне хочется жить…