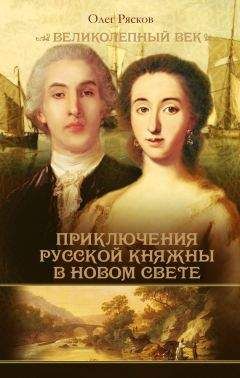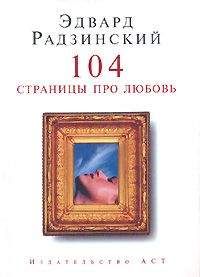Явдат Ильясов - Стрела и солнце
— Вина!
Рабыня принесла на медном подносе серебряную вазу с изображением грызущих друг друга крылатых грифонов, два тонко сработанных кубка и кусок белого овечьего сыру.
— Выпьем, сынок, за радостную встречу!
У Асандра был расчет — пусть люди, находящиеся сейчас вместе с ним во дворе или приникшие с острым любопытством к раскрытым окнам дворца, видят, что он, царь, запросто, по-семейному, пьет вино с несчастным Орестом. Пусть думают, что Асандр простил, наконец, мятежного сына.
Орест никогда не встречал со стороны родителя столько добродушия.
Другой подумал бы, что старик свихнулся.
Или, ступив одной ногой на порог Аида, впрямь раскаялся в былой черствости к сыну, решил, пока не поздно, поправить то, что когда-то было так жестоко испорчено в их отношениях.
Но мозг Ореста, насквозь пропитанный винными парами, соображал плохо. Бродяга понял одно — сейчас дадут выпить. Он облизал губы, оживился.
Старик разлил вино по кубкам:
— За примирение!
Тонкие, вымазанные черной грязью пальцы Ореста тряслись от слабости, зубы лязгали о металл.
Он жадно, судорожно-алчным глотком опорожнил кубок, откинул голову назад и блаженно зажмурился.
Через несколько мгновений пьяница ощутил в груди приятный огонь. Свободней побежала по жилам кровь. Глаза, как убедился царь, когда Орест их открыл, приняли более осмысленное выражение.
— Проследуй же в свой дом, сын мой, — Асандр кивнул на окна Белого дворца. — Омой бренное тело, облачись в одежду, подобающую наследнику престола. Вкуси сытную пищу и предайся мирному отдохновению.
«Ишь ты, старый пес! — мысленно усмехнулся Поликрат. — Где он отыскал такие пышные слова? Вон как их накручивает — что твой Эсхил…»
Асандр потребовал к себе цирюльников, банщиков, портных.
С Ореста соскоблили грязь, сделали массаж спины, груди и ног, бережно обрили худое лицо, постригли и причесали, одели беднягу в чистый шелковый хитон. И бродяга преобразился. Оказалось — злополучный гуляка еще не совсем утратил прежнюю привлекательность.
Она была у него не холодной, безжизненно-правильной и скучно-соразмерной, как у мраморных статуй. Не слишком напористой и пугающей, как у чрезмерно мужественных солдат. Не чувственной южной, с лаковым блеском выразительно прищуренных глаз и жадным ртом. Орест походил на свою покойную мать и напоминал помятую розу или тонкую, изящную, очень больную женщину.
…Слух о том, что Асандр простил сына, в тот же день распространился по всему Пантикапею.
В каменных домах звпатридов, богатых купеческих лавках, дымных мастерских, темных землянках рыбаков и глинобитных хижинах оседлых скифов люди горячо обсуждали неожиданное событие.
Все уже давно забыли об Оресте.
И вот он снова наверху.
Что теперь будет? Каждый понимал: неспроста Асандр опять приблизил Ореста. Вероятно, он собирается передать ему царскую власть. Хорошо это для Боспора или плохо?
— Не волнуйся, — сказала Динамия хилиарху Скрибонию. — Если затея Асандра сводилась к тому, чтобы назначить Ореста наследником престола, то нам нечего бояться. Убрав старика, мы уж как-нибудь справимся с таким червяком, как Орест.
Через три дня, дав сыну возможность вдоволь пображничать и отдохнуть, Асандр призвал его к себе, поставил перед ним вазу с вином и завел беседу о важных делах.
— Орест, сын мой, — заговорил Асандр, задумчиво постукивая ногтями по сосуду.
«Знакомый, противный голос. На сей раз в нем почему-то звучит нежность», — равнодушно отметил Орест, не отрывая от вазы голодного взгляда. Асандр наполнил чашу. Орест стремительно припал к ней, выпил и затих.
— Сын мой Орест, — продолжал царь. — Тебе уже — сколько, дай бог памяти? — да, тебе уже тридцать лет. Не так ли? До этого возраста молодой человек вправе пошалить. Он — чтоб мне пропасть, если я ошибаюсь! — может проводить время беззаботно.
Асандр покосился на сына, брезгливо озирая следы, оставшиеся на его лице от подобного времяпровождения.
— Но, сын мой, когда человеку стукнет… э-э… исполнится тридцать, он должен — если он не ду… не глупец, конечно, — задуматься о своей судьбе. Он уже мужчина, а не юный молокосос. Так я говорю, а? Первый долг мужчины — возжечь свой семейный очаг. Ты понимаешь меня? Гесиод писал:
До тридцати не спеши, но и за тридцать долго не медли:
Лет тридцати ожениться — вот самое лучшее время[8].
Значит, тебе пора… это самое — «ожениться».
Второй долг мужчины — обеспечить родителям спокойную, безбедную старость. Я уже дряхл, сынок. Мне тяжело нести, как говорится, бремя власти и все такое.
Однако я не требую твоей помощи. Пока и сам как-нибудь справлюсь… Но первый долг ты исполнишь, Орест. Ты возьмешь в дом женщину и зажжешь свой очаг.
Я больше не сержусь, Я хочу оказать сыну добрую услугу. Отличную невесту я подыскал для тебя, Орест! Это дочь Ламаха — главного архонта Херсонеса. По отзывам сведущих людей, она хороша, как померанец. Правда, дочь Ламаха уже выходила замуж, но супруг утонул на четвертый день после свадьбы.
Думаю, она тебе понравится. Как бы то ни было, ты пожалеешь старика и не пойдешь против моего желания. Да, ты женишься на дочери Ламаха. Живи с ней, где захочешь — или здесь, или у феодосийцев, или по ту сторону пролива, или… в Херсонесе.
Асандр передохнул, закусил губу и бросил на сына короткий жесткий взгляд.
— Лучше, конечно, поселиться в Херсонесе. Ламах тоже стар (ох, боже!), архонту будет радостно найти опору в сыне боспорского царя. Ну, что скажешь на это?
Речь отца, построенная, для вящей убедительности, из оборотов, заимствованных из старинных поэм — оборотов, сквозь которые ясно проглядывала купеческая хитрость и солдатская грубость, — вызвала в усталом мозгу Ореста только недоумение.
Жениться? Вот потеха. Для чего Оресту жена? У него одно желание: напиться до потери сознания и завалиться до утра в кусты. Так живет он вот уже семь лет и больше ничего не хочет.
— Ну, ты согласен? — спросил отец.
Оресту осточертел разговор. Он сокрушенно вздохнул и молча потянулся к вазе. Но царь отстранил его руку и протянул скрипуче:
— Так ты не согласен, а-а?
Тогда, лишь для того, чтоб его оставили в покое наедине с чашей, Орест, морщась от боли, точившей пьяницу изнутри, оскалил зубы и закричал — не то слишком весело, не то слишком грустно:
— Да! Согласен, будь я п-проклят! Ты знаешь, как я рад? Только о том и мечтал всю жизнь, чтоб жениться.
Он скоморошничал, кривлялся, но сквозь его безудержно-жизнерадостный смех ясно проглядывала сквозившая в глазах отчаянная тоска, душевная боль.
— Вот и хорошо! — Асандр возбужденно потер ладонью о ладонь. — Эй, Поликрат!..
Декаду спустя из гавани Пантикапея вышла в море красногрудая боспорская триера — большое военное судно с тремя рядами весел и высоким носом, горделиво изогнутым в виде лебединой шеи.
На этом корабле отплыли в Херсонес послы хитроумного царя Асандра.
Едва корабль, подняв паруса, скрылся за скалистым выступом берега, Асандр поспешно вернулся во дворец, закрылся в опочивальне и сел, как тогда, дождливой ночью, за письмо.
Письмо в тот же день было доставлено Поликратом в Нижний город, в лачугу косоплечего пирата.
Косоплечий пират, не теряя времени даром, спустился в гавань, оттолкнул от причала свою лодку, взялся за весла и переправился через пролив. В глухом лимане, в густых зарослях тростника, он отыскал островок, где скрывалась в последнее время шайка Драконта.
Драконт развернул свиток, прочитал тайное послание царя и ночью отплыл вдоль кавказского берега на юго-восток, к Бате.
Здесь он высадился, взял часть своих людей и верхом на мулах, украденных на ближайшем пастбище, отправился в горы. Дней через пять в долину Гипаниса[9] спустилось из темных ущелий трехтысячное войско.
Всадники в лохматых шапках разорили несколько мелких греческих колоний, разбросанных среди керкетских, торетских и синдских становищ, и темной лавиной двинулись на Фанагорию. Часть маитов примкнула к неприятелю. В проливе замелькали черные паруса их быстроходных лодок.
Слух о набеге дошел до Пантикапея. В Рыбной бухте — небывалый переполох. Звенит оружие на палубах военных кораблей. Визг испуганных женщин и плач детей смешались с криками владельцев торговых судов, приплывших из Афин за пшеницей. Над водою — единоголосый вопль:
— Пираты!
Недобрая весть перекинулась через стены города.
Толпа знатных юношей, без дела шатавшихся перед храмом Гермеса, мгновенно распалась, рассыпалась, точно стадо овец, завидевших волчью стаю.
Почтенные купцы — те, что с утра надрывались на рынке, расхваливая товар, — пустились домой, выкатив глаза и подобрав колышущиеся полы хламид.