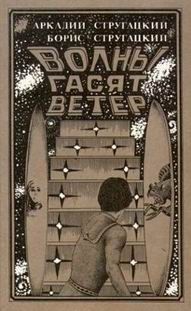Владимир Дружинин - Именем Ея Величества
Молодой секретарь уже приволок папки, петушком выпятил грудь. Из певчих он, Ферапонт, читает — заслушаешься. Вывел заглавие на листе — 31 марта. Консилия. Головкин ещё раз оглядел залу.
Светлейший опаздывает…
По регламенту если — ждать не обязаны. Вопрос, который многим знаком, а Меншикову подавно, и не терять бы время, велеть бы Ферапошке пропеть договор пункт за пунктом…
Ягужинский этого и хочет, шёпот его, в ухо соседу, громок. Несдержан генерал-прокурор! Гаврила Иваныч невозмутим. Отыскал чистый листок, отрывает кусочки и комкает, отрывает и комкает — обычное занятие от нечего делать.
Минуло без малого полчаса — зафыркали в переулке княжеские кони. Александр Данилович влетел бойко, с улыбочкой, торопливо кивнул — ни намёка на извинение.
— Ух, посыпало!
Снял треуголку, сбил мокрый снег. Улыбнулся задорно, будто узнал нечто забавное и сейчас выложит.
— Вешняя пороша, сладкая…
Кто-то фыркнул досадливо. Ишь, мол, весну почуял! А люди продрогли на воде да здесь сидючи. Хорошо ему — живёт рядом, езды всего сотня сажен. Вырядился…
Хламиду Меншиков скинул в коляске. Полдня он пробыл у царицы и мог бы дома сменить одежду, но не изволил, предстал в полном параде. Дразнит вельмож, закутанных в серое, тусклое, дразнит богатым узорочьем кафтана, а паче редким обилием наград.
Широкая голубая лента через плечо, орёл святого Андрея, висящий слева, под сердцем, — память о славной битве, о государе, присудившем лично. Справа почесть от союзника, датский слон — белый, толстый, глянцевый, унизанный самоцветами. Иных орденов при нём быть не должно, а ленты носить вперекрёст и вовсе запретно, но князь нарушил статут, ввинтил прямо в сукно кафтана. Польский Белый орёл и прусский Чёрный уместились на груди — лент им, благо, не положено. Все четыре ордена сияют, режут глаза завистникам.
Кто заслужил столько?
Печатая шаг, прошёл перед собранием Александр Данилович, выбирая себе место. Усмехнулся, перехватив ненавидящий взгляд Репнина. Медлит фельдмаршал с отъездом. Но уж недолго терпеть его… Голицын прикрыл веки, непроницаем. Василий Нарышкин полирует подушечкой ногти — ух, старательно! Вся тут боярская троица, главари супротивного стана.
— Матушка наша милостива… Решпект [64] нам оказывает… А мне приказано наши суждения нижайше донести.
Пока всё идёт как надо. Без него не начали. Головкин смотрит вопросительно — не уступает президентство на консилии. Нет, излишняя жертва. Князь сел рядом, подвинул канцлеру звонок. Ферапошка откашлялся, разгладил пачку листов, обмусоленных за годы, — память господ надобно освежить.
Запел Ферапошка.
— Отныне и впредь навсегда между Её Императорским Величеством Всероссийским, Его католическим величеством, Его Британским величеством будут существовать искренняя и неизменная дружба и тесный союз.
Сановные зевают, чешутся, спорят — нарастает гул. Лишь Голицын, кажется, безучастен, дремотно прикрыл веки и всё чаще притягивает взгляд светлейшего. Противник скрытный, наружно приветливый — оттого и опаснейший. Что скажет сейчас?
— Пётр Алексеич, отец наш, — задребезжал фальцет, — искал концерна с Францией, искал же… Ноне оттоль длань просящая… Неужто отринем?
Ошеломил боярин. Был сторонником Вены, царевича звал на трон.
— А цесарь-то! — крикнул Репнин. — Вконец рассердим.
— Димитрий Михайлыч, полно тебе, — запричитал Долгорукий. — Цезарю изменять? Этого не искал покойник… Не приказывал. Хоть бы и свадьба. Турок навалится, только и ждёт…
— Тогда не до свадьбы, — просипел Головкин.
Пункт о браке Елизаветы в договоре отсутствует, суждение о сём деликатном предмете в протокол не вносят. Умолчал и Голицын, продолжая речь.
— Что ж, цесарь. Прозывается алеат [65]. Рать какую нам посылал разве — роту хотя бы? Алексея же прятал, прятал… Что на уме было? Государыню нашу обидел. Пошто не величает, как надлежит? Она титул императрицы законно носит. Я Кампредону говорил — благословен грядущий с миром. А кондисьоны [66] его…
Заковыристая у Голицына речь — церковность мешает с иностранщиной. А человек просвещённый. Будучи губернатором в Киеве, привечал у себя живописцев, пиитов, поощрял печатанье книг и обученье разным наукам. По царскому веленью разорил Запорожскую сечь как очаг бунта, но в час смерти Петра бунтовал сам, требуя регентства при малолетнем наследнике. Отчего же он, заядлый противник монаршего своевольства, вдруг узрел мудрость в женском капризе? Явный же совершил вольт-фас… Светлейший спросил мысленно и ответил себе — дальний прицел у боярина. Доверие царицы добывает себе.
— Кондисьоны француза… — и Голицын обратился к Остерману. — Ты, Андрей Иваныч, востёр. Что француз нам намолотил, ты перелопатишь да просеешь, где мило, где гнило…
Говорок деревенский, врастяжку, московский — мужичок-простачок да и только. Вице-канцлер кивнул два раза — слышу, дескать — и не ответил. Взбил воротник епанчи, трётся щекой об него, постанывает. Зубы болят? Уловка обычная — выжидает лукавец.
Умён, бескорыстен, дипломат величайший — так аттестует Европа безродного вестфальца.
Без тени стеснения рассказывает он о себе — сын пастора, в юности причетник в кирке, скопив гроши, поступил в университет, бедствовал, считался студентом способнейшим. А стороной про него доходило — ученье не кончил, подрался на дуэли, убил соперника и бежал из Иены, укрылся в Амстердаме. Случай свёл с Крюйсом [67] — бывалый мореход, старший такелажник порта нанялся к царю и взял юношу с собой.
Россия, неведомая Россия, манившая прежде мехами соболей, горностаев, куниц, стала при Петре страной удивительных карьер. Крюйс достиг звания вице-адмирала, порадела Фортуна и его секретарю. Однажды царю подали бумагу, составленную складно, красиво, убедительно. Кто писал?
— Я смог испробовать себя. О, благодетель-царь умел отличать талант!
«Пробовать» — первое русское слово, усвоенное Остерманом, такое похожее на немецкое «пробирен», и произносит он его, облизывая сухие, аскетически бледные губы. Его пробуют, он пробует себя и других.
— Когда ты лезешь на дерево, — учит он, — ты не сразу опираешься на ветку.
Сперва переводчик Посольского приказа, а вскорости его секретарь, затем член русской миссии в Ништадте, на мирной конференции. Блеснул ловкостью, тонким обхождением, затмив многих высокородных, старался немало, дабы с вящей выгодой заключить с Швецией трактат. Ни разу не треснула ветка под ним… Царь произвёл в бароны, сосватал красавицу из благородной русской фамилии. В долгу не остался вестфалец — второй родиной признал Россию, трону верен беззаветно. Иностранцы пытались подкупить — отступали с конфузом.
Почти без ошибок говорит по-русски Генрих Иоганн, в просторечье Андрей Иваныч, ныне вице-канцлер государства. Доволен ли? Стремится ли выше по древу карьеры? Петербург гадает.
— Чем выше, тем тоньше ствол, — философствует он. — И ветки слабее. Свалишься — шею сломаешь.
Поучает пространно, себя же открывает скупо. Живёт скромно, тихо, гостей на пиршество, на карточную баталию не зовёт. Зато поглощён страстно игрой амбиций, бурлящей у трона. Не денежного выигрыша ищет — наслаждается успехом умственным, строит прогнозы и проверяет, взвешивает шансы того или иного царедворца. Персона сильнейшая при царице — Меншиков. Стало быть, его и опорой избрать. Но доверять не слишком.
Пробовать, пробовать…
Прими он православие, достиг бы большего. Намекали ему… Нет, изменять вере отцов бесчестно, царь сие осуждал. Молодым придворным смешно. Странен вице-канцлер, одетый старомодно, небрежно, пуговицы на поношенном кафтане оловянные — этакий скряга. Вино покупает, слыхать, самое дешёвое… Издеваются франты за спиной, и барон знает это. Как-то раз напустился — извольте, мол, уважать сподвижников Петра! Они создавали империю могущественную, а пустоголовые чада легкомыслием, жаждой наслаждений разрушат.
И сейчас, на консилии, Остерман выглядит убогим канцеляристом — епанча из года в год та же, воротник простой, без меха. Сидит прямо, окостенело, только пальцы в движении, сплетаются, расплетаются, бегают, живут будто сами по себе.
— Обманет маркиз.
— Турок враз ополчится.
Репнин и Долгорукий твердят своё, но растерянно, с жалобой. Потеряли Голицына… Светлейший подсчитывал противоборствующие силы, дал зарок до голосования помалкивать, не выдержал, вскочил.
— Оробели, господа… Кабы мы с великим государем робели да оглядывались…
И жестом вызвал Остермана.
Тот встал нехотя, с миной мученика, кряхтя — снова, вишь, хексеншус, то есть пуля ведьмы, прострел. Францию он уподобил барашку, Англию волку. В прошлую войну досталось барашку от британских зубов, альянс между ними неравный. Есть шанс его подорвать. Ослабленная Англия будет безопасна.