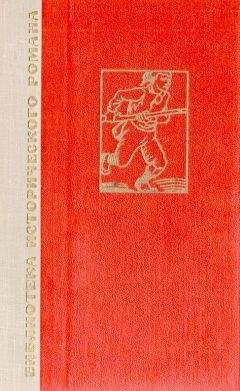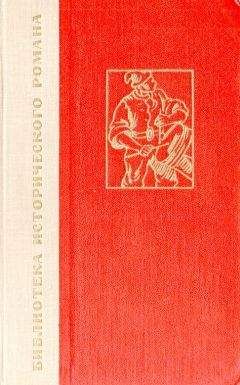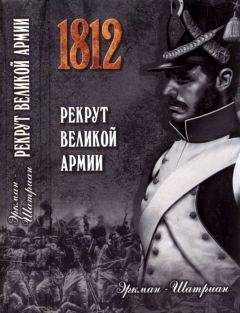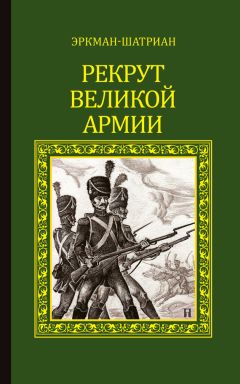Геннадий Прашкевич - Секретный дьяк
Шумчю…
Остров первый. За ним пролив.
«Сей пролив, – указано было на чертежике гусиным пером, – шириной версты две или меньше».
Ну, не велик пролив, осваиваясь, думал Иван. Хороший пловец, есть такие, руками запросто отмахает две версты. Если не тронет, конечно, какой морской зверь и не унесет в пучину течение.
Уяхкупа…
«Великая и высокая сопка. А люди не живут, только с первого и с другого острова приезжают сюда ради промыслу. Земной плод сарану копают, птицу промышляют, також морских зверей».
Морские звери представлялись Ивану непременно ужасными, вроде морского монаха или морской девы, а то и бабки-пужанки, тинной бабушки, о какой не раз слышал еще в Сибири.
Пурумушир…
«Живут иноземцы. Язык имеют один и веру, на дальние острова ходят. Привозят котлы и сабли, а у сабель круги медные, обогнуты края кованым серебром. На этом острову дали нам иноземцы бой крепкий и на разговор не дались».
Малый остров Сиринки…
Остров Муша, он же Онникутан…
«Живут там те же мохнатые, иначе курилы».
Малой остров Кукумива…
Остров Араумакутан…
«Сильно горит, дымом пахнет, люди к тому острову не идут».
Да что ж это такое? Зачем горит остров? Как может гореть целый каменный остров? Зачем никто не потушит?
Дивился.
Остров Сияскутан…
И малый Игайту…
И острова Мотого, Шашово, и Ушишир. А дальше Машаучю. Все птичьи какие-то названия. И Симусир. И Чирпой – великая сопка. И тот Итурпу, куда плавают люди далекого Нифонского государства. И вновь перелевы, и вновь дымящие сопки, и вновь высокие берега – до самого острова Матмая, где русский человек еще ни разу ногой не ступал.
Иван задумчиво перебирал губами. Сиринки… Онникутан… Симусир… Итурпу… Как мохнатые выговаривают такое?… Дивился, как тесно толпятся на чертежике острова – ставь мачту на малый коч, и плыви, объясачивай иноземцев… Он бы, Иван, поплыл. Мало ль, что иноземцы драчливы. И на самых драчливых пушка найдется… Вдруг понимал, что нынче во всем Санкт-Петербурхе, во всем заснеженном заветренном Парадизе, где так много всяких умных людей, может, только он один знает истинный путь к Апонии. Может, только он один знает, как пройти от одного острова к другому, и где чего бояться, а где высаживаться смело, не боясь копий и стрел… При этом, правда, и другое понимал с тоской: может, он и знает путь к загадочным островам, но ему-то этот путь заказа. Никогда он, секретный дьяк Иван Крестинин, не будет допущен к тем загадочным островам…
Долгими вечерами, уединясь, досконально изучил маппу. Как бы сам, самолично, прошел от Камчатских берегов до острова Матмай, туда, в далекое Нифонское государство, к городовым нифонским людям. И часто представлялось Ивану: вот маленькие робкие люди-нифонцы стоят на низком песчаном берегу и на каждом шелковые халаты, украшенные необыкновенными растениями, как на халате-хирамоно соломенной вдовы Саплиной. И, видя кровь, стенают те робкие апонцы отчаянно, и заплаканные глаза закрывают широкими рукавами…
Мечталось Ивану: показывает он маппу думному дьяку Матвееву, а думный дьяк в свою очередь показывает маппу государю. Усатый горяч, он любит все новое. Он крепко схватывает Матвеева за плечо и коротко приказывает: лодки дам, пушки дам, приобщи к России Апонию! А думный дьяк, пыхтя, с солидностью отвечает: я уже стар, я уже не могу, но на то есть у меня верный человек… Да кто таков?… А дьяк секретный, Иван Крестинин. Умен, верен, знает иноземные языки. Он и укажет прямую дорогу в Апонию, очень уж крепкий и умный дьяк…
А море?… – спохватывался Иван. А Сибирь – ее необъятность, гнус, опасности?… А варнаки, пурги, медведи, долгие переходы, зверье?… Ведь там, за Якуцком, за ледяными каменными хребтами, за Камчатской землей, на самом краю земли – разве там будет проще?
Аж весь холодел. От недостижимости сущего впадал в тоску. С ним такое уже случалось. Однажды как-то вышел из кабака, несло поземку, дул бесприютный ветер. И из этого пронизывающего бесприютного ветра, из белых взвивов мокрого снега вылетела вдруг бесшумно карета, копыта лошадей, ступая по снегу, не производили никаких звуков. И в окошечке кареты отодвинулась занавеска и глянули на пьяного Ивана льдистые голубые глаза – женщина, каких только во сне видят.
И сразу исчезло видение – за ветром, за снегом.
Разве можно когда-нибудь снова увидеть такие глаза?
Да нет, конечно. Ему, секретному дьяку Ивану Крестинину, суждено до самой смерти просидеть в сыром Санкт-Петербурхе. Ему, тихому секретному дьяку Ивану Крестинину, суждено до самой смерти ходить в одиночестве по кабакам, или сидеть в канцелярии над чужими маппами…
С печалью подумал: неужто нет никакого выхода? Неужто истинно важное дело навсегда останется далеко от него, как тот взгляд льдистых голубых глаз из-за отодвинувшейся занавесочки?…
С надеждой подумал: можно ведь по-другому сделать. Раз нельзя сразу двинуться в дальний путь, можно собрать все слухи о Нифонте-острове и о восточных островах, и уже по-своему, все сверив, все перепроверив на много раз, на основе чертежика, найденного в мешке неизвестного казачьего десятника, сочинить свой собственный капитальный чертеж. Пусть не дано ему, дьяку Крестинину, дойти до края земли, пусть врал все старик-шептун, может, пригодится все же кому-то такой капитальный чертеж? Вспомнил, как говорил думный дьяк: теперь, когда войны нет, устремляет государь взоры к востоку… Ведь устремляет!… А тут он – Крестинин с чертежом… Может, Усатый вернет ему отцовские деревеньки?…
Выучив бумаги наизусть, Иван твердо решил от них избавиться, но потом передумал – не дело палить чужой труд. Надежно спрятал бумаги в валенке за печью, а о дерзком казачьем десятнике решил твердо забыть. В самом деле, мало ли всяких людей пропадает каждый день в Санкт-Петербурхе? Тот казачий десятник не первый и не последний.
Иногда снилось странное.
Острова… Лес темный… Мрачный зверь мамант, по татарски – кытр… А на берегах робкие апонские воины в необыкновенных халатах-хирамоно. Они нелепо махаются сабельками, почти игрушечными, окованными мягким серебром, и так же нелепо вскрикивают: пагаяро! А потом широкими рукавами закрывают заплаканные глаза…
Странные сны.
Острова, мысы – голубые, как вечернее небо.
А за островами и мысами еще большая, совсем бездонная голубизна.
А на высоком мысу вдруг одиноко сидит человек, похожий на маиора Саплина, и тоже широким рукавом закрывает заплаканные глаза.
Впрочем, не мог быть тот человек неукротимым маиором Саплиным. Неукротимый маиор Саплин не умел плакать. Ему слез не было дано природой, только уверенность. Это он, бедный секретный дьяк Иван Крестинин, лишенный Усатым отцовских деревенек, часто просыпается в слезах, так ему жаль неизвестного человека, оставленного казаками на высоком мысу. Как-то даже рассказал о своих снах вдове, она руками всплеснула:
– Много воды? Ну, голубчик… Снится такое к амурному приключению!…
И почему-то покраснела.
Глава V. День на божьего Алексея
1
В левом ухе звенит – к радости.
В день на Алексея, человека божия, у Ивана с утра сильно звенело в левом ухе. И не зря, оказалось. Разбирая темный канцелярский шкап, густо дышущий запахом пыли, клея и залежалых бумаг, Иван напал на неполный шкалик. Кто и когда сунул тот шкалик в шкап – неведомо, но сунули шкалик в шкап не день и не два назад, это было ясно – стеклянную посуду обнесло паутиной.
С неясным удовольствием Иван подумал – вот совсем забытый шкалик.
И нахмурился.
Не понравилось ему его неясное удовольствие, вдруг испытанное. Не хотел думать о винце. Не пил почти всю зиму. Сам держался, и добрая вдова держала, и таинственный чертежик казачьего десятника держал. Боялся заглядывать в австерии, в кабаки, в кружала: выпьешь, не дай Бог, а там вновь появится сердитый десятник. Увидит Ивана, ухватит железной рукой за ворот и ссекёт ему ножом одно ухо. А то и другое. Где, спросит, мешок с чертежиком? Верни, бумагу, указывающую путь в Апонию! И, не ожидая ответа, крикнет государево слово. Набегут солдаты, повлекут Ивана в Тайный приказ! А, может, тот десятник и кричать не станет. Зарежет на месте.
С ума можно сойти от таких мыслей.
Хорошо, думный дьяк Матвеев завалил Ивана работой.
Не зря намекал доброй соломенной вдове о тайном походе в Сибирь, что-то такое готовилось на самом верху. То неожиданно приходилось Ивану переводить немецкие и голландские записи, глупые и скучные, а то вдруг сидел, не разгибая спины, составлял по приказу думного дьяка многочисленные экстракты из множества казачьих выписок, тоже скучных и не всегда умных. Случалось, занимался и чертежиками корабельных мастеров. А вот куда, в чьи руки уходили обработанные бумаги, этого не знал. Да его это и не интересовало. Какой, собственно, интерес? В чьи бы руки ни попала бумага, он, секретный дьяк, все равно ни к каким большим делам не причастен, и никогда ни к каким большим делам причастен не будет.