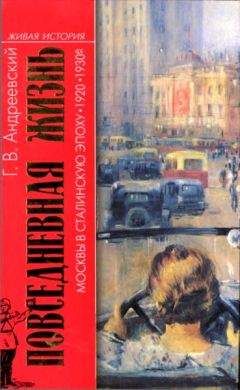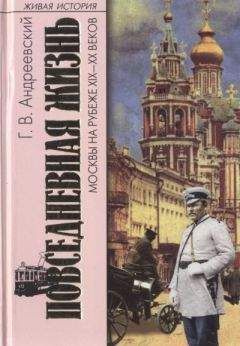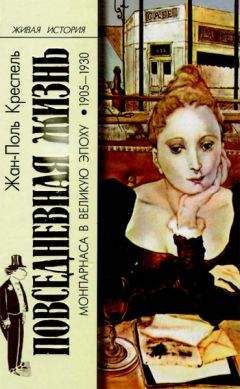Георгий Андреевский - Повседневная жизнь Москвы в сталинскую эпоху. 1930–1940-е годы
Из НКВД Лукашов несся домой, точно пятак, «звеня и подпрыгивая». Он не столько понял, сколько почувствовал, что с сегодняшнего дня он не такой, как все, что он лучше, выше, чище, преданнее и сильнее других. В этом его убеждало доверие, оказанное ему чекистами, теми самыми чекистами, которых так боятся жильцы его дома, все эти недорезанные буржуи, недобитки, пережитки проклятого прошлого. Теперь судьба многих из них оказалась в его руках. Если б они об этом только знали!
Весь вечер Василий Сергеевич с Евгенией Евгеньевной наперебой вспоминали о прегрешениях жильцов дома перед советской властью. Записали, чтобы не забыть, все, что вспомнили, в тетрадь, а записанное несколько раз перечитали. Волнение и чувство великой ответственности от Василия Сергеевича передалось и Евгении Евгеньевне.
Воспоминания начали с Мошковичей.
– Помнишь, Женя, – говорил Василий Сергеевич, – как еще в девятнадцатом году Абрам Григорьевич со своей Маринкой тащил по парадной лестнице мороженую картошку на санках. Я им тогда культурное замечание сделал: «Мол, сдираете, господа, своими санями линолеум со ступенек, общественное добро портите». Правильно ведь сказал. Им бы извиниться или хотя бы промолчать. Так нет, Абрашка стал орать на меня: «Этот дом не ваш, а наш, и хоть и взяли вы его, но придет время, обратно отдадите!» Долго ждать придется… А помнишь, когда в доме стену проломали, чтобы еще одну дверь сделать, как он заявил: «Ваше дело ломать, а не строить»… Много он за свою жизнь построил, сукин сын!..
– А вспомни, Вася, – перебила его Евгения Евгеньевна, – как мамаша ихняя, царство ей небесное, когда меня на кухне чаем поила, сказала: «Раньше у нас была столовая для черного народа, где мы его кормили». Хорошо, говорит, кормили. А тут я как-то у них спрашиваю: «Где, мол, вы мыло и чай достаете? Так сам, что мне ответил, знаешь?» – «Мыло с наших мыловаренных заводов в Сибири, а чай – с собственных плантаций».
– Что ты говоришь? А я вот вспоминаю, как в тридцатом Абрам в Германию летал. Говорил, что по службе. Я его потом спрашиваю: «Ну, как там немцы живут?» Так он: «Живут хорошо, всего много, не то что мы». Я ему тогда: «А у нас что, плохо, что ли?» Так он: «Все у нас хорошо, только ничего нет». Еще болтал, что в Казахстане и Шепетовке рабочие восстали, а, как тебе нравится? Я тебе про это, небось, рассказывал.
Евгения Евгеньевна хоть этого и не помнила, но из солидарности поддакнула.
После разоблачения Мошковичей супруги перешли на жильца 13-й квартиры Иванова. Василий Сергеевич вспомнил, как еще в 1920 году, когда они с Ивановым возили на грузовике дрова для топки московских учреждений, Иванов указал ему на строй рабочих, мобилизованных в Красную армию, а потом сказал: «Смотри, что это за армия, оборванная и разутая? Раньше такого не было, армия была обута и одета, и был в ней хороший комсостав, а теперь командиров старых из армии удалили, а новые командовать не научились. Эта армия победить не может». Вспомнил он еще и о том, что недавно встретил Иванова и тот ему в разговоре сказал: «Никакой правды нет. Советская власть арестовывает и судит лучших, невинных людей».
– И за язык-то я его не тянул. Наболело, значит, – задумчиво прибавил Василий Сергеевич.
– Что ж ты удивляешься, Вася, не зря же говорят, что Иванов буржуй, что отец его до революции свой ресторан имел. Да и сам он был нэпманом, свою механическую мастерскую имел. На него же, Валентина Федоровна сказывала, семь человек работало. А в коллективизацию, помнишь, как он говорил, что рабочие и крестьяне голодают.
– А что он про товарища Сталина брехал, слыхала?
– Чего?
– Чего! А того, что товарищ Сталин – это товарищ Ленин наоборот.
– Как это?
– А так: Ленин В. И., а Сталин И. В. Вот как!
– Во гад! Он еще Рыкова хвалил, помнишь?
– Да помню… Ну а Городецкий лучше, что ли?
– Ну, по этому-то жиду тюрьма давно плачет. Помнишь, как он не хотел свою домработницу на заем подписывать? У нее, говорит, доходов нет. Все ее доходы – это, говорит, мои доходы: я ей зарплату плачу, а я со всех своих доходов на заем уже подписался. Эх, жаль, что мы про него мало знаем. Сара-то его со мной не откровенничает, хотя и здоровается. Ты бы с ней поговорила. Слышал я, что у него за границей родственники имеются, так, может быть, он с ними переписку ведет…
Евгения Евгеньевна пообещала что-нибудь придумать.
Тут супруги наши вспомнили о том, что еще не ужинали. Евгения Евгеньевна полезла в буфет, достала четвертинку. Василий Сергеевич колбаску порезал, хлеб, постругал огурчик. Опрокинув по рюмочке и закусив, они продолжили.
– А вот про Кондакова из 22-й квартиры, – медленно произнес Василий Сергеевич и при этом откинулся на стуле и хитро прищурился, – мы кое-что знаем. Цукер, покойник, мне про него мно-о-го чего порассказал. Он ведь, гад, антисемит. Да! Жену Цукера до смерти своим антисемитизмом довел, да и самого Цукера доконал. Все говорил ему: «Вы, жиды, забрали всю власть в свои руки, а русским жить не даете, все забрали себе и хозяйничаете». В тридцать пятом годе я с ним в лифте поднимался, так он мне говорит: «Ремонт отопления никуда не годится. Зимой опять мерзнуть будем». Я спрашиваю: «Почему?» А он: «У советской власти ничего путем не делается. Вот в деревне отобрали землю у крестьян, и мы остались голодными, и колхозники голодают, а когда не было колхозов, у нас и на рынке, и в магазинах всего было много». Да, частный капитал для Кондакова, что отец родной. Не зря Цукер говорил, что видел у него в комнате ярлычки Кондаковской мануфактурной фабрики.
– Фабрикант, значит?
– А ты думала?!
– А ты сына его помнишь, ну который теперь в армии, – потрясла Евгения Евгеньевна рукой перед лицом мужа. – Он же пытался домработницу изнасиловать, ножом ее порезал. А при обыске у него карикатуру нашли из какого-то иностранного журнала. На ней еще было нарисовано, как наши рабочие тащат вещи на тележке, а внизу написано: «Советский извозчик». Я тогда еще у них понятой при обыске была.
Василий Сергеевич потянулся было, давая жене понять, что на сегодня хватит, спать пора, но тут Евгения Евгеньевна сильно ударила себя ладонью по лбу и выпалила:
– А Протасову-то забыли! Слушай, Вася, я давеча зашла к ней с подписным листом, деньги еще собирали на помощь испанским детям, так ты знаешь, что она мне ответила? – «Что же, – говорит, – советская власть совсем обеднела, что вы за нее ходите и нищенствуете. Подайте тогда и мне, я безработная». Так денег и не дала. А еще помню, я ее попросила на собрание прийти. А она мне: «На собрание не пойду. Я и на службе-то на собрания не хожу. Лучше пойду с собакой погуляю, мне у вас на собрании делать нечего, там одна трепотня. Много говорят, а делать ничего не делают. Хозяев много, а толку нет». Я ей объясняю: вот вас выберут – вы толку и добьетесь, а она: «А если меня без меня куда-нибудь выбирают, то я им говорю: без меня выбрали, без меня и работайте». Вот такая несознательная.
– Про Жемочкина-то из 36-й чуть не забыли, – спохватился Василий Сергеевич, – а он лучше Протасовой, что ли? В девятнадцатом, помнишь, когда у нас клуб организовали, я по поручению «Чусорснабарма» Красина мебель собирал, ну ковры там и прочее, сама знаешь. Ну, с товарищами, как полагается, к Жемочкину и зашли, объяснили ему, так, мол, и так, давай, Тихон Фомич, поделись с народом, чем можешь, а он знаешь, что ответил? – «У меня, мол, завод отобрали, а теперь хотите отобрать последний ковер!» Так и не дал. А дочери-то его еще говорили, что у них в Кожевниках собственный кожевенный завод был.
– Вот, Вася, какие люди у нас еще есть, ты к ним с добром, а они на тебя с топором, – заключила Евгения Евгеньевна.
За семнадцать лет супружеской жизни Лукашовы никогда еще так много и увлеченно не разговаривали, не были так близки и интересны друг другу. С каждым воспоминанием они казались себе все более и более значительными людьми. Еще немного, и перешли бы на «вы», но усталость взяла свое, и они уснули в объятиях, полные не только любви друг к другу, но и уважения.
На следующий день Василий Сергеевич подкарауливал в подъезде «верных» людей и расспрашивал их о жильцах дома. Он не знал тогда, что «верных» людей, как и его, вызывали в райотдел НКВД и они (то бишь бывшие управдомы Макушин, Цветков и нынешний – Буратовский) получили такое же, как и он, задание.
Через три дня все они собрались в квартире Лукашовых для того, чтобы написать по запросу НКВД характеристики на жильцов дома. Сели за круглый обеденный стол. Перед Буратовским лежала домовая книга, перед Лукашовой – чистый лист бумаги. Она была за секретаря. Буратовский называл фамилию жильца, после чего все высказывались по названной «кандидатуре».
Макушин, в частности, сказал: «Городецкий ненавидит рабочих. Сам слышал, как он говорил: „Вы взялись управлять государством, а толку нет никакого, надо вернуться к старым порядкам“. Городецкий в Белоруссии фабрику гнутой мебели имел. Рабочих эксплуатировал».