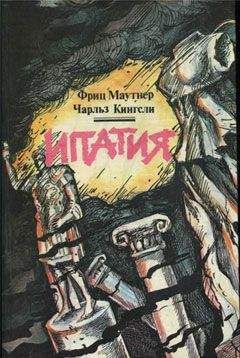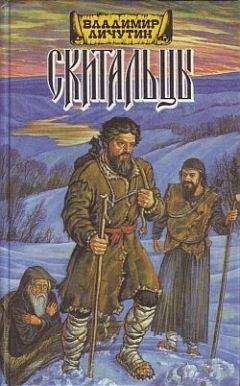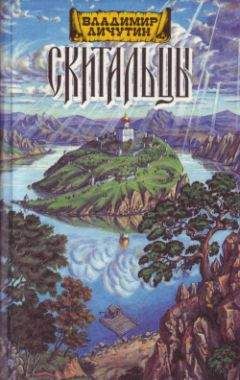Владимир Личутин - Скитальцы
Клавдя осторожно поцапал под рубахою и поразился пустоте. Он снова с силою запер глаза, воспринимая случившееся как смешной сон, но больной огонь в чреслах не пропадал, а тлел ровно, сосуще, как бы в зияющую рану вытекали последние жизненные соки, и оставалась на примосте одна провялившаяся кожурина. Дерево-то и живет лишь до той поры, пока семя готово ронять; а как отпала охота, тут и завелся неминучий короед, и скоро проест он насквозь и морщинистую вековую кору, и болонь, и сердцевину. Как же так случилось, сынок? К Богу не придвинулся поближе, ибо другим был занят ум твой, и от здоровой жизни отстал, сам себя осиротил... И вспотел Клавдя, излился холодным потом, дурно ему стало и тошнехонько. Пусть все это в сон вернется, черным видением останется.
«Господи, обороти все назад, верни меня прежнего, ничего мне не нать. Лучше в конином дворе при лошадях быть; лучше на съезжей с полосатою спиной лежать, кусать локти от боли; лучше шалеть в трактире на побегушках, снося подзатыльники; лучше под забором валяться пьяней вина, чтобы каждый, кому не лень, пинал тебя, вонючего и истасканного. Но ведь и тогда отыщется милостивая душа, пожалеет сердечным словом. А тут-то все, все-е-е. Господи, коли ты есть и правишь нами, верни меня прежнего. Одумалси я, одумал-си-и. Гы-ы-ы...»
Но скоро глухая тоска отступила, стушевалась, расчетливая Клавдина натура брала верх, оправлялась. И снова смешными показались недавние страхи, но теперь другое ужасало: «Обманул ведь, июда, всю мошну разом взял противу уговора, а не ополовинил. Слово святое предал, кат. Вокруг пальца обвел, ско-ти-на. Как поймал-то, а?»
Клавдя неожиданно взвыл, злостью обожгло голову, и он разом прозрел, очистился взглядом, и, как прежде, один глаз стал зеленым, другой – серым. Но так широко разбежались они друг от дружки, так откатились к вискам, что Клавдя без усилий обнимал взглядом почти всю келейку, не поворачивая головы. Но перед носом была серая колышащаяся завеса, словно бы голову раздвоили мощным ударом и неловко сшили. Боль в брюшине потухла, будущая жизнь принимала отчетливые очертанья, и впереди брезжило иное, новое, ранее недоступное. Одолел Клавдя запоры, взял приступом крепостные пали и вот готов по новым владеньям пройтись хозяином. Широко отныне шагать ему, ходко, и не будет ограды, остановы во всех хотеньях. Главную боль одолел, плоть свою смирил, утишил, и отныне не растекутся его мысли и желанья, но сольются в одну реку. «Бойтеся, медведи, и волки, и все мелкие шерстнатые звери, сам лев к вам идет».
Есть вдруг захотелось, после долгого поста напал жор, но и потроха сомлели от голодовки: от густой выти живо зажмет, вывернет и уморит. Пророк Миронушко вроде бы подслушал братца, вошел в келейку, но Клавдя отвернулся к стене. Пророк не заговаривал, но лишь поставил возле кружку с отваром шиповника, нарочито пристукнув донцем, помедлил чуть и удалился. Клавдя жадно выпил настой и стал придумывать месть. Предположил: «Ежели в полицию сдать? Откупится апостол, всяк у него в горсти. Его тюрьмою не возьмешь. Надо так приголубить старикашку, чтобы муку мученическую принял. – Клавдя грезил с закрытыми глазами, и картины одна зловещей другой сменялись в его воспаленном воображении. – И Громова надо известь, его опосля, его черед после». Ведал бы Громов о помыслах меньшего брата, он сам бы себе отсек длань, коей помог выбраться бродяге из трясины; сам бы себе вынул глаз, коим впервые углядел козлища посреди вонючего стада. Самого черта запустил кормщик в корабль свой, ненасытного волка под видом агнца завел за заплоты в овечье стадо, и серому зверю скоро наступит кровавый праздник.
На второй день, шаркая чунями, снова явился Миронушко и шелестящим голосом вопросил:
– Ну как со здоровьем, Клавдеюшко?
Но тот лишь брезгливо дернул плечом и не повернулся навстречу, выдерживая натуру. Но пророк поймал перемены в скопце и ушел с ангельским пением в груди.
На третью ночь Клавдя придумал месть, и когда наутро явился Миронушко с вытью в черепушке, страдалец сам повернулся навстречу с тупым, смиренным лицом, залитым слезами.
– Ну брось реветь-то, мужик ведь! – утешил Миронушко, опускаясь возле и слегка оттиснув Клавдю к стене.
– Да, был мужик, а таперича кочедык березовый, – захныкал Клавдя. – Погляди, что со мною исделал, варнак!
– Ты пой, братец. Нынь тебе петь надо. Ты где был ранее-то, грешник? В трясине по уши. Я тебя вытянул и просушил. А сейчас ты вроде ангела, светишься весь. Петь надо...
– Я-то воспою, отечь. Да за тебя пла?чу. Свой-то грех неискупимый как понесешь дале? Как жить будешь? Себя жалко, а тебя жальчей.
Туманен набежал на лицо Миронушки, не ожидал апостол услыхать подобных слов; но быстро справился с растерянностью, жалконько улыбнулся. Апостолу не пристало терять ума, он Богом приписан в пастыри.
– Ты не майся, Клавдеюшко. Легше, как зараз-то облегчился, за одним делом, – заговорил апостол уклончиво, льстиво, будто винился, но взор оставался хрупкий, льдистый. – Ты не серчай на меня, Клавдеюшко. А то два раза примайся, два раза страдай. Обелился, и с плеч долой. И возвысился разом, и капиталу сполна взял. Он. капитал-то, сейчас поплывет к тебе, огребай только. Ты на меня зло не держи, ну?
– Не держу... Только обидно. Вокруг пальца обвел.
– Ну и хорошо, и ладно. – Апостол сдержанно засмеялся, и Клавдя не вспылил на дьявольский смех. Знобящая месть попритихла, улеглась в Клавде, как змея в полой гнилой колоде. Теперь неусыпно она там в душе, дозорит за каждым шагом, но не мешает, не гнетет.
Так решил Клавдя, что смерти Громова не дождаться и обещанного наследства не видать, и поначалу перебрался в свой домок на Сретенку. Но там все напоминало девку Ульяну, и потом съехал на Старую площадь, поближе к лавке, разумея держать торговлю под рукою, под призором.
Ел он, по обыкновению, дома, из ближайшего трактира половой носил постоянное – шти, гречишную кашу на постном масле да три раза в день пару чая за трехкопеешник. Клавдя справил себе белый суконный распашной кафтан, белый картуз с длинным козырьком и белые в полоску брюки, каковые заправлял в смазные сапоги. Он как-то сразу, незаметно для себя, принял облик скопца, его повадки – эту слегка косоватенькую, припадающую походку, полусогнутость плеч и улыбчивую ласковость лица, быстро тускнеющего, присыпанного легкой мучнистой пылью, сквозь которую проступила луковая нездоровая желтизна. Он и прежде-то был некрасовит, но сейчас с рассеянным взглядом необычно широко поставленных пестрых глаз и с лисьей угодливостью в лице он вызывал некоторое чувство гадливости и отвращения, отчего обычно говорили с ним вполоборота, не то стесняясь чего, не то укорачивая и без того немногословный разговор. А может, виною тому был душный, приторный запах тела, каковой обычно исходит от древних, нажившихся, затлелых людей. Сам же Клавдя не замечал за собою перемен, и манера людей разговаривать нехотя, сквозь зубы досадила ему, и он навязчиво приступал лицо к лицу, старался глядеть глаза в глаза, и чувство неловкости, которое он принимал за смущение и робость, радовало его. Это позднее даже из пренебрежения и гадливости, которые старались выказать ему, Клавдя будет делать капитал.
Но поначалу тело его будто высосали сквозь соломину, не было в нем прежней упругости, прежнего петушиного задора и желаний, в нем ощутимо заселилась смерть; она растекалась в каждой жилке, в каждом хрящике и мосолике и без того невзрачной плоти. Клавдя ощущал присутствие смерти по тому отупляющему чувству пустоты, по той постоянной подавленности, с какою разговаривал, едва через натугу цедил слова, ел, пил и вел дела. Прежде чем чего-то сказать, даже несущественное, не требующее изворотливости и лукавства, он напрягался, как бы скреплял воедино рассыпающийся хребет, и для каждого слова требовалось столько усилий, что Клавдя быстро уставал и беспричинно потел. Он-то, наивный, полагал желанно заснуть, а очнуться уже иным. Но без мук разве что рождается на миру? Без потуг, без слез отчаяния, без боли и грудного надсадного вопля разве явился на мир хоть один человек? Было ли, чтоб из материнской родовы полезло дитя с улыбкою? Сколько всего тебе перетерпеть еще, Клавдя, прежде чем выжжется природное, отцово-материно, пока-то потухнет все под периною мертвой золы.
Клавдя шел по улице, ловил на себе любопытные взгляды и поначалу недоумевал тому, спохватывался вдруг и отыскивал в одежде неприличную неловкость. Он еще не знал, что приобрел ту нестираемую вековечную печать, коя лезет в глаза куда пуще, чем клеймо вора и висельника. Даже средь тыщи обычных людей сунь хоть одного скопца, невидного и тщедушного, спрячь его за могучими спинами и плечами, но и тогда он как-то вдруг, против своей воли выпятится вперед, будет виден всем, вокруг него образуется та пустота, которую трудно перешагнуть даже самому жалостливому человеку. Клавдя полагал, что вместе с обелением умерла в нем всякая тяга к прелестям, погасло волнение в сердце и даже один вид женщины будет отвратителен ему. Но как ошибался он, Боже ты мой: все будто бы обруби в человеке, обкорнай его, как засохшее креневое дерево, но и тогда в нем сохранится зов к продолжению рода. Именно бабы и доводили попервости его своею беспощадной житейской откровенностью, причиняли, оказывается, невыносимую боль, отчего хотелось плакать. А кухарок иль горничных ежели взять, те хихикали беспричинно, тыкали пальцем прилюдно, зная об изъянах скопца, откровенно напрашивались на любовь, кричали вслед всякие непристойности, а особенно наглые, те даже хватали за руку и тянули к самым неприличным местам с вызывающим хохотом. Сам вид скопца, багровость сухого, напряженного лица и потерянные беспомощные глаза вызывали в простых бабах здоровый беспричинный смех, отчего налитые груди колыхались вызывающе и дразняще. И чем яростнее выходил из себя Клавдя, тем большее удовольствие доставлял прохожим. Время прошло, пока Клавдя смирился и спрятался в себе, как улитка в раковине.