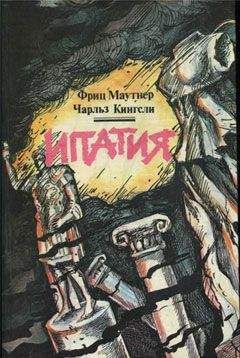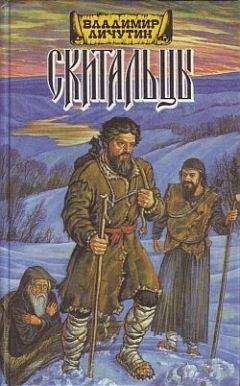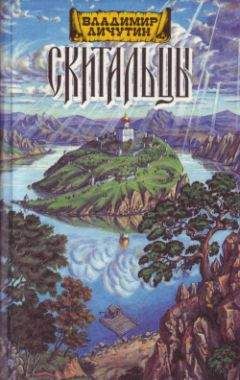Владимир Личутин - Скитальцы
– Ты врешь все, безумец! Там ничего нет...
– Может, и нет, – согласился Паисий. – Ежели не приметесь искать, как поймете, есть ли что там? Вы поищите. Сделайте мне шалашик, я отлежуся и к брату пойду. Брат ждет, заждался. И зачем я привел вас, зачем? – Старец затрясся хилым телом и вновь залился слезами. – Он язык себе вырвал за измену, он слова себя лишил. А я клятву дал. И пошто не издох, пошто не издох? Клятвопреступник, вот и хожу вживе. И не умереть мне, во веки веков не издохнуть. Убейте! Осчастливить хотел, а горе принес. Закоим чужие грехи замаливал, а свои-то и взрастил. Взрастил грехи свои тяжкие, и земля меня не примет. Она меня из пещерицы отринула, чтобы не затаился там. Небо не пустит, и земля отринула. Братцы, а как дале-то? Июда, июда. Зачем врата открыл? Доня, ты Богом данный, забей меня ослопом, пронзи осиновым колом...
– Мучайся, злыдень! Мучайся, – злорадно воскликнул Симагин, топчась возле Паисия. – Я бы тебя пронзил, да от твоей кровищи струпья по телу пойдут. Змей ты, вот кто, змеюка подлая.
И, решившись, пехнул легонько старика ногою. Паисий покорно обрушился на бочок, свернулся калачиком и скосил в небо прозрачный круглый глаз, дожидаясь грозы. Но смерть не шла, и суд не вершился.
– Тебя непролитая кровь гнетет. Пролей, – обратился Симагин к Донату. Он не просил, но требовал, и копья усов хищно вздрагивали. – Убей, освободись от гнета. В апостолы приму...
– Убей, сынок, – жалостно попросил Паисий.
– Оставь, пожалуй! Пусть мучится, – решил Симагин.
– Убей... сверши казнь. Зачтется. Я попрошу апостола Павла... зачтется.
– Господи... Ну зачем так. – Доната била дрожь. Ему жалко было старика, и он возлюбил его пуще отца родного. Вот мучается же человек, лютой казни просит. Где гордыня, куда делась она? А он, Донат, уж кой год мщенье в груди лелеет, чужой крови хощет. – Зачем вы меня мучаете? Вам сладко, да? Скажите, вам сладко? – жарко шептал Донат. Вдруг склонился, поднял Паисия на руки, отнес в тень. И, уже ставя шалаш, кричал, отворотив лицо: – Пошто душу-то мою пластаете на разрыв? В струпьях она, в болячках, так дайте покоя.
Но мольба была кинута в пустоту. Старик тяжело дышал, наливаясь бледностью. Симагин был занят предстоящей местью и упорно точил злобою сердце.
– Ты его не убивай, Донат. Я погорячился, – повторял он, заикаясь. – Он сам на себя казнь наслал.
Донат укладывал старца в шалаше и уговаривал:
– Ну пойдемте, отче. Ну что в голову вбили? Пусть ворон выпьет глаза, пропасть мне на этом месте, коли не донесу. Вы же как пуховинка, вас и не слышно. Мне даже веселее, когда вы на горбине. Ну что втемяшилось, отец родимый? Послушайтесь, молю вас.
Но старец молчал, крупные веки были почти черные, как у покойника. Но по той отрешенности лица, по вялой безразличности тела, коя выдавала полную удаленность человека от всего земного, Донат понимал, что Паисий подвигнулся к смерти и нарушать это душевное согласие великий грех. Пришел срок, а завтра приспеет время Доната иль Симагина, и старец, пожалуй, счастливее их, ведь он кончается при живых, есть кому закрыть очи, исповедаться и причаститься. Сам бог топчется, мечется возле шалаша, и серая сермяга взлетает крыльями над сухой негнущейся фигурой. Но бога в шалаш никто не звал, никто не просил его, а Донату так хотелось, чтобы меж добрыми людьми нашло примирение, чтобы причастился Паисий.
– Позови бога-то, отец, призови. Он соборует.
Веки Паисия едва дрогнули, и, наверное, большого усилия стоило тому, чтобы скривить, в тревоге напрячь лицо:
– Нет-нет... Ты бойся его, Донюшка.
Паисий замолчал, сцепил на груди пальцы и сронил прощальную голубую слезу. Слеза упала на цветок желтоголовника и стеклянно зазвенела. Донат поцеловал старца в лоб и, дивясь странной слезе, выполз на волю.
К вечеру они взошли на вершину безо всякой надежды на счастье и вдруг попали к той самой сосне трезубцем, о которой поминал Паисий. Значит, не солгал старец? Вручил ключи от врат рая? Под сосною хранилась черная плита, похожая на горб юродивого. Симагин понимал древлеотеческую грамоту и, опустившись на колени, прочитал, водя пальцем по резным буквицам: «Кто знает, дух сынов человеческих восходит ли вверх и дух животных сходит ли вниз, в землю?»
Заночевали тут же, не отходя от плиты. Но была на небе наволочь, солнце не проклюнулось. Потом сквозь редкую мешковину посыпал ситничек и бусил до ночи, не переставая.
И второй день шел затяжной дождь. Но костра не разводили, словно боялись дозора, догляда: все чудились заставы, тайные скрытные люди. Под горою лежал мертвый Паисий и уже ничем не мог помочь скитальцам.
На третий день пришел ливень с ветром, и трехзубая вершина святого дерева с грохотом обрушилась: лишь чудо спасло странников.
На четвертый день раздался оглушительный свист, поднялся вихорь, полетели по небу деревья. Сосну шатало, и могучие коренья, как живые, лезли наружу, извиваясь. Донат успел привязаться к отвилку, Симагина подъяло вверх и долго крутило в сучьях и ветвях; он упал к подножью нагим, в чем мать родила, и до вечера приходил в себя. Донат упрашивал путника вернуться под гору, но бог упорствовал.
На пятый день посыпал снег, тихий, хлопьистый; к вечеру снегу навалило с аршин.
На шестой день ударил мороз. Напялили на себя все, что нашлось в торбах, и не чаяли остаться в живых.
На седьмое утро явилось благословенное солнце. Донат утвердился на скользком горбатом камне и стал ждать чуда. Старопечатные буквицы святого остережения жгли ступни, подбивали ноги и гнали прочь с камня, но Донат терпел казнь: пути назад были перекрыты. И вот ударил слепящий солнечный луч, он пробил заснеженный лес насквозь, разъял его, располовинил, так что вершины деревьев повисли в воздухе, а комли стволов послушно отшагнули, и на дальнем конце огненного столпа в голубовато-серебристом овале, как в дымящейся проруби, увиделась пустынь из белого камня и золота. Она была соткана столь призрачно, маревила, колыхалась в воздухе, что в присутствие ее, в обманчивое это видение трудно было поверить. Настороженная, уставшая душа ждала чуда, но не могла, оказывается, так сразу привыкнуть к нему. Луч вспахал в снегу борозду до самого поддона, словно могучий оратай прошелся по еланям с копорюгою, и скитальцы поспешили вдоль нее, ступая по насту, пугаясь наступить на розовую кипень мхов, будто там таился обманчивый, искусно прикрытый провал. Снег оплавлялся на их глазах, кипел и таял, и ходоки торопились, насколько хватало угасающих сил, пока не стерся указующий путь к Беловодью. А позади рождались мгновенно потаенные ручьи; они с угрожающим шорохом катились под снегами, проедая наст.
Глава вторая
Лучше бы не возвращаться Клавде на сей свет: кому нужен, кто ждет на земле некошного головастого человечка на кривых замохнатевших ногах. Добрым мужиком зачат, и понесла-то широкая, с неизносимой хребтиной баба, а вот поди ж ты, какого мышонка соскребли из хорошо замешенного теста. Видно, замысел тому виною: украдкою да в темени лепили, стережась дозору и сплетен, вот и не взошел парень. Тепла не хватило лишь, тепла сердечного.
Бывает же, случается чудо: родители вроде бы хлипкие, в чем душа живет, но по любви и согласью такого мальчонку скроят, такого парнишонку выпестуют, вдунув в него земной сытный дух и кротость, что после и сами не надивуются и не раз восплачут, радостно восклицая: «Да Господи, не наш ты, поди, а чей-то чужой подкинут в постелю, пока мы храпака задавали». И смеются, и всхлапывают ручонками, сидя на лавице и счастливым взглядом озирая кудрявую светлоокую голову сына. А тому тесно под матичным бревном, давит притолока рамена молодца, гнет выю родительская избенка, обжимает, неволит тело, как тесная рубаха. Вот уж подарок родителям за смирную жизнь, как есть подарок...
Но Клавдя безлюбовным явился в мир, безматним возрос, безотним сам решил стать, отринув в прошлое и домы свои, и род, и память. Лег под нож неколебимо, как агнец на заклание, будто впереди сто жизней – и... переменился. Как в помраченном, опоенном уме скатиться в темень и жуть – ударил Клавде в один глаз золотой свет, золотою пылью призадернуло; второй зрак призавесило серебристым пологом. И сам себя успокоил Клавдя: будут у него груды злата, будут груды и серебра, все в ноги падут, все поклонятся. Но из беспамятства едва всплыл, и был левый глаз залит свинцом, правый – оловом. Тело корежило и ломало, словно под двумя жерновами побывал, в двух мельничных толчеях дробили и выплюнули, выжав всего, измочалив. Приходил в себя туго, ничего не соображал, ничего не желал. Не знал, не ведал Клавдя, что новый человек рождался в закорелом теле, пожирая останки прежнего. Не умереть тебе, сердешный, на деревянном примосте в чужой избе, в потайной келье, куда, кроме хозяина, никто не знает ходу; не загинуть тебе, поморский сын, предавший род свой, возле нахолодевшей брюхатой печи, кою раздуют для нового агнца. И покажется тебе жизнь длинней бобыльей старческой ночи...