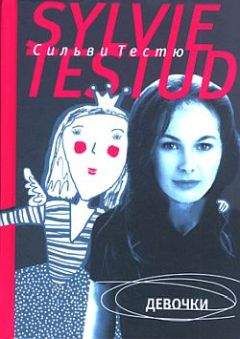Евгений Анташкевич - Харбин
Дверь оказалась запертой, и в доме было тихо.
«Ушел, и слава богу! Ну что? Ехать в миссию или вместе с Миронычем поглядеть окрестности на Гиринской?» Рикшу он отпустил, потоптался около дома и вдруг вспомнил ночной разговор с Лычёвым и Дорой Михайловной.
«Как же я о них забыл? А ну-ка, смотаюсь на Шестнадцатую, неужели она действительно свернула дело и всех распустила или отправила?»
В такси он стал вспоминать вчерашний вечер: передачу американской радиостанции, приезд к Родзаевскому, нежданную встречу с престарелыми любовниками и рассказ Лычёва про золото и Адельберга. И вспомнилась мысль, которая пришла ему в голову после известия об американской бомбардировке и письма Родзаевского Сталину, которое почему-то уже перестало его волновать: «Неужели это и есть конец войне?»
Харбинцы, особенно те, кто интересовался, понимали, что если союзники свалили двух участников оси Рим – Берлин-Токио, а США до сегодняшнего дня находятся в состоянии войны с третьим, то, конечно, кто-то должен свалить и его. Мало кто сомневался, что война ещё не окончилась и кто-то должен стать в ней победителем – в её последней фазе. А может, это снова будет Сталин? Не зря Лычёв упомянул о переброске Советами войск на Дальний Восток.
Такси ехало, как рикша, небыстро, сначала Сорокин хотел поторопить водителя, а потом пришло ленивое спокойствие, и он только смотрел на людей на тротуарах и думал. Людей было много, уже была середина дня, и самый центр деловой части города, как всегда, был шумным и активным, но, как показалось Михаилу Капитоновичу, люди были уже не те, по сравнению с собой же хотя бы полгода назад: мало того что харбинцы стали нервными, нервными стали и японцы.
«Чем же всё-таки американцы так «порадовали» японцев? Что это за бомба такая атомная или атомная – «ньюклеа бом»?
Погружённый в эти мысли, он не заметил, как машина проехала Диагональную и уже подъезжала к виадуку. И не заметил, как мысль от бомбардировки японцев повернулась к разговору с атаманом, золоту, Адельбергу и к нему самому. Он давно уже не вспоминал тех чисел февраля 1920 года, когда судьба повела его по той дороге, которая сегодня, вот сейчас, проходит по харбинскому виадуку. Он уже много лет не вспоминал об этом. Машинально он глянул на свою давно уже не новую шляпу, которая лежала рядом. Он ходил в ней каждый день, и она ещё не просохла после вчерашних «бегов»: низ шёлковой ленты на тулье был серый от пота, а поверху выступила и вкруговую засохла белёсая полоска соли.
«Обносился ты, Михал Капитоныч! И так и не привык к харбинскому климату!»
Он вспомнил свою юность омского гимназиста, юнкера военного училища выпуска 1916 года, и радость, с которой он, накануне Февральской революции, ушёл на германскую, и подумал, что как только он попал на нечётный путь сибирской магистрали, то был обречен попасть сюда, на вот этот виадук.
«Ровесник века – юнкер Сорокин! Обносился!»
Он взял шляпу в руки, провёл рукой по солёному следу на ленте и бросил её на сиденье.
Мимо окна мелькали люди, дома и железнодорожные пути квжд.
«Разве об этом думал я, сын видного омского конституционного демократа Капитона Сорокина? Разве об этом думали они, когда бежали из Омска, а во главе их бежал Колчак? Разве за то они боролись, чтобы в Щегловской тайге получить шальной снаряд и сгинуть в снегах?..» Он получил известие о нелепой смерти родителей и деда уже около Иркутска, когда стало ясно, что белые не смогут переформироваться и создать оборонительный рубеж, который красные не смогли бы преодолеть: «И где бы я был, если бы не попал в эшелон к Адельбергу?»
Потом был Ледовый поход через Байкал, потом ранение, когда прорывали «читинскую пробку», потом долгое сидение в эшелонах, когда китайцы решали судьбу каппелевцев, потом красный пинок во Владивостоке. И вот она – Маньчжурия.
Сорокин снова взял шляпу. «Сколько ж она мне служит? Лет семь? Ровно столько, сколько я не пью? Зря я с ней так!»
Машина въехала в Фуцзядянь.
«Неужели всё снова кончится?» – думал Михаил Капитонович. Он покосился на мелькавшие дома: Фуцзядянь приютил его дважды, до того, как он попал в русскую группу генерала Нечаева, и после. Оба раза в качестве «ночлежника».
«Как я это выдержал? – Он мотнул головой, отбрасывая мысли: – Главный смысл жизни – это сама жизнь! А потому – вовремя мне попались и атаман, и Дора!»
Ещё минут пятнадцать машина продиралась через заставленные китайскими повозками улицы Фуцзядяня. Не доезжая пересечения Наньсиньдао и Четырнадцатой, Сорокин вышел: «Не надо, чтобы шофер видел, куда я иду!» Он расплатился и к известному дому пошёл пешком.
На Шестнадцатой было оживлённо. Не отдавая себе отчёта, он стал всматриваться в лица мелькавших кругом китайцев. Что-то его удивило, сначала он не понял, а потом понял – в отличие от русских и японцев на Пристани и в Новом городе на лицах китайцев в Фуцзядяне он увидел улыбки. И тогда до него дошло окончательно: «Эти ждут красных! Это точно, конец войне! Значит, надо не растеряться!»
Он пошёл быстрее, подошёл к двери под болтавшимся на горячем ветру красным фонарём, оглянулся, убедился, что на него никто не смотрит, дёрнул запертую дверь и вытащил набор отмычек – этим полицейско-воровским искусством он вполне овладел. В большом зале, куда он попал, ещё пахло совсем недавним весёлым присутствием: кисловатым запахом алкоголя, китайскими ароматными палочками, запахом сигар и ещё чем-то неуловимым, что делало приличное заведение приличным и не оставляло гадливых воспоминаний.
В зале и в коридорах было мрачно из-за опущенных тяжёлых плотных портьер, в полутьме мерцала полированная мебель, отсвечивали стекла на офортах, светлыми пятнами в углах стояли в рост ребёнка белые китайские фарфоровые вазы с розовыми пионами и синими драконами на округлых боках. Глянцево блестели толстые листья больших растений в кадках.
«А цветочки-то не вывезли! – удивился Михаил Капитонович. – Что бы это значило?»
По широкой, покрытой синей ковровой дорожкой центральной лестнице он поднялся на второй этаж, туда, где находились номера для особых клиентов. Прошёл налево в конец коридора и толкнул последнюю дверь по правой стороне. Это был номер, глухая стена которого выходила на строившуюся дорогу, отделявшую Фуцзядянь от берега Сунгари. В стене был английский камин с дымоходом и зеркалом. На мраморной каминной полке, как и раньше, стояли большие фарфоровые часы со скачущими на злых конях двумя охотниками на лис. Передняя лошадь передними копытами уже наступала на изогнувшуюся оскалившуюся лису, а охотник…
«Господи! – готов был простонать Сорокин в голос. – Моя маленькая леди Энн! Сколько раз ты звала меня!.. Сколько раз рассказывала про эту охоту…» Машинально он потянулся к заднему карману брюк. Карман был пуст, и тут он вспомнил, что час назад на лестнице миссии столкнулся с японцем, с которым когда-то ехал в купе дайренского экспресса: «Фляжечка! Тогда же я и забыл её, свою фляжечку, подарок маленькой леди Энн!»
Он оглядел зашторенный тёмный номер и как будто бы проснулся: «Зачем я здесь?!»
Он заставил себя больше ни о чём не думать, вышел на улицу, на соседней Пятнадцатой, взял такси и с максимальной скоростью, подгоняя шофёра, добрался до Гиринской. Вылез, немного не доезжая на Новоторговой, около Чуринского магазина, и пошёл сначала по Большому проспекту, потом свернул налево на Ажихейскую, с Ажихейской направо на поперечную Почтовую, с неё в сторону Большого проспекта на Гиринскую и в конце этого почти полного круга вышел снова на проспект. Он знал, что Мироныч где-то здесь и он должен его увидеть, а если не увидит, значит, будет ждать его на «кукушке», а Мироныч уже девять минут дышал в затылок Сорокину, от самого угла Ажихейской и Почтовой.
– Не вспотеешь, Капитоныч? – услышал у себя за спиной Сорокин и оглянулся.
– Чёрт старый, хорошо брюки на подтяжках, а то бы…
Сморщенный Мироныч стоял перед ним, похожий на ветерана обороны Севастополя, и то ли улыбался, то ли щурился, и на его мятом пиджаке не отсвечивал Георгий, хотя он его имел.
– Огляделся? – спросил Сорокин.
– А как же! Некуда им тут деться, хучь братьям славянам, хучь братьям китайцам, кроме ежели как по квартирам попрячутся, да как только им это удастся?
– Пойдем ещё раз на особняк глянем?
– Не, Капитоныч, не будем светиться раньше времени. – Мироныч докурил папиросу и издалека, не по возрасту молодцевато щёлкнул её в урну. – А чё делать будешь, коли обнаружим их, сразу япошам сдашь или походим за ними?
– Кого? А, ты про этих… Ещё не решил…
– Правильно, Капитоныч, правильную мысль держишь! Может, и не надо с ними ссориться, када придут?
– А тебе чего бояться, ты же в Гражданскую был уже здесь, как с германской вернулся?
– А сейчас я кому служу, апостолу Петру, что ли?
– Да, Мироныч, твоя правда! – ответил Сорокин и подумал: «Сильная мысль – служить апостолу Петру, носить его ключ от рая!»

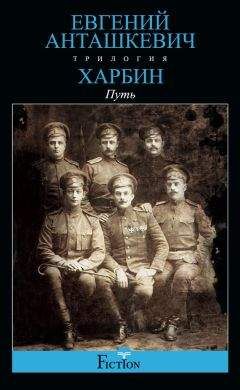
![Елена Верейская - Три девочки [История одной квартиры]](/uploads/posts/books/239265/239265.jpg)