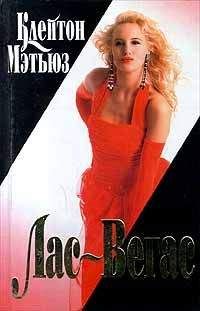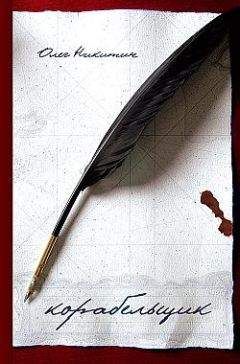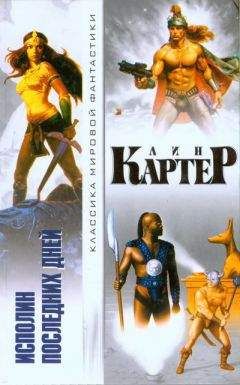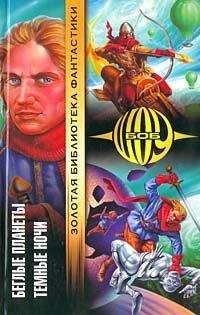Владислав Бахревский - Столп. Артамон Матвеев
...Буран улёгся в единочасье. Хлынул с небес золотой свет. Пустозерск принялся откапываться. Шла Страстная неделя.
Капитан Лишуков насел на воеводу. Коли припоздать со срубом — Пасха, а там Пятидесятница, Троица...
Поставили сруб в Святой четвёрок. В тот же день пустили к распопу Лазарю жену его Домну и дочь его.
Принесла Домна рыбки, да луковку с солью, да сухариков аржаных.
Лазарь рыбку не принял:
— Не пригодится...
Луковичку, однако, взял и сухарик.
Поплакали. А когда стали прощаться, Лазарь повеселел:
— Ты, Домнушка, ещё раз челобитную-то подай. Без меня чего им вас в Пустозерске томить? Чай, отпустят.
И крестил их, родненьких, крестил.
К срубу привезли страстотерпцев сразу после обедни, чтоб народа было много — всем упрямцам урок.
Зачитали царский указ.
Аввакум поднял руку, сложив персты, как отцы складывали, крикнул:
— Богу молитесь!.. Вас-то научают мамону славить. Бога хвалите! Бога!
Перекрестился. Благословил народ и первым вошёл в сруб. За ним семенил Епифаний. Да вдруг спохватился, кинулся назад, подбежал к стрельцу, сунул ему свой крестик деревянный.
— Пепельцу нашего положи! Пепельцу! В реку пусти, кому-то во спасение будет! — перекрестил стрельца и юркнул в сруб.
Лазарь, рыща глазами по толпе, возопил:
— Домница! Доченька! Голубушки! Где же вы?
Пошатнулся. Диакон Фёдор подхватил его под руку. Так вдвоём и вошли в последнее своё пристанище.
Сруб был с полом, да без крыши. Сияло солнце. Ледяные искры столбом уходили в небо, в высь немереную.
Стали прощаться. Фёдор подошёл к Аввакуму, обнялись. Аввакум благословил дитятко бешеное.
Пахнуло горящей смолой. Люди закричали.
— Молча умрём? — спросил Фёдор.
— Как бы не так! — Лицо Аввакума озарилось радостью. — Не по-ихнему будет! По-нашему! В Великий пяток жгут нас, простаки! С нами Бог!
Запел: «Иже во всём мире мученик Твоих, яко багряницею и виссом, кровьми Церковь Твоя украсившися, теми вопиет Ти, Христе Боже; людем Твоим щедроты Твоя низпосли, мир жительству Твоему даруй и душам нашим велию милость».
В тот самый час Анастасия Марковна, протопопица, в Мезени у печи стояла. Себя не помня, накидала дровишек сверх меры да и наклонилась огонь оправить. Тут и дохнуло из печи на неё ярым пламенем.
Простоволоса была, платок на плечах лежал. Занялись кудряшки надо лбом, над ушами, будто огненным венцом осенил её невидимый ангел. Волос-то пламень не тронул. И вырвалось из сердца у Марковны:
— Сё батькин огнь! — и обмерла. — Не знай чего язык болтает.
О Господи! Сердце ты наше, сердце! Не ошиблась Анастасия Марковна, прозрела, что за огонь-то сей. То было последнее батькино благословение супруге и дому своему, и то была ей и домочадцам любовь его, Аввакумова, огненная.
4
Весь март царь Фёдор Алексеевич был в немочи, но дела свои государевы, превозмогая слабость, вершил.
Ставил в бояре князя Михаила Яковлевича Черкасского, князя Бориса Ивановича Прозоровского, ближнего своего человека, доброго воина Алексея Семёновича Шеина. В комнатные возвёл боярина Ивана Андреевича Хованского, в окольничьи — князя Якова Васильевича Хилкова.
Давно ли всякое явление царя народу было светлой радостью, ныне же боярин ли, воин, простолюдин — опускали глаза, пугаясь того, что видели в лице самодержца любезного. Великий государь был — о, судьбинушка! — как огарочек от тоненькой, от скоро сгорающей свечи.
Иван Максимович Языков с Алексеем Тимофеевичем Лихачёвым приходили тайно в сии тревожные дни к царице Марфе Матвеевне, просили заступиться за великую государыню Наталью Кирилловну, за Нарышкиных. Говорили, винясь за прямоту, истины жестокие.
— Упаси Господи, коли Фёдор Алексеевич сляжет надолго! Милославские ждать не станут. У них уговорено собрать на Красной площади своих холопов, и те выкликнут в цари Ивана Алексеевича. Иван Алексеевич — душа добрая, но глазками слеповат, а умом святая простота. Своего понятия у него нет, что ему скажут, то и содеет.
О корыстолюбии Милославских Марфа Матвеевна с детства наслышана была. Приняла слова Языкова да Лихачёва к сердцу. Приласкалась к Фёдору Алексеевичу, попросила о Наталье Кириллове, а тот и обрадовался, но уж так грустно:
— Ах, не думаю о тебе, свет ты мой желанный! Верно, верно! Какой из Ивана царь? Петруша — другое дело. Десятый годок, а солдатами потешными командует не хуже немцев. Здоров, слава Богу. Поезжай к Наталье Кирилловне, уговори во Дворец на житье вернуться. В Преображенском покойнее, да к шапке-то Мономаховой ей с Петрушей следует быть поближе.
На Вербное воскресенье Ослятю не водили. Фёдор Алексеевич в постели лежал.
К концу Страстной недели силёнок у великого государя вроде бы прибыло, и в Великую субботу, 15 апреля, он ходил в Успенский собор, перекладывал в новый ковчег заново сшитую из кусочков Ризу Господню.
Был великий государь и на заутрене пасхальной службы. Бояре и все чины явились по указу в золотом платье, святейшему Иоакиму сослужили пятеро митрополитов, два архиепископа, епископ.
То был последний великий выход самодержца Фёдора Алексеевича.
Всю Светлую неделю он опять провёл в постели. На Антипасху у патриарха Иоакима был стол в Крестовой палате. Фёдор Алексеевич поднялся было, велел подать праздничное платье, да голова закружилась.
И были большими гостями за патриаршим столом бояре князь Василий Васильевич Голицын да князь Владимир Дмитриевич Долгорукий, но без царя и праздничный стол сирота.
А покуда в Кремле шёл пир, в Стрелецкой слободе разразилась буря с ружейною пальбой.
Утром два десятка стрелецких полков ударили челом великому государю на полковника Семёна Грибоедова, жаловались на его невыносимое насильство, на своё разорение от лихого начальника.
— Стрелецкого бунта нам только и недоставало. — Фёдор Алексеевич от слабости даже глаза прикрыл веками. — Отберите у Грибоедова вотчины и — в Тотьму его! В Тотьму! Да чтоб стрельцов на злое не подвиг, возьмите под стражу тотчас.
Сё был последний указ царя-юноши.
Волнение не пошло на пользу, Фёдор Алексеевич впал в забытье. И в Кремле шёпоты, будто мыши, зашмурыгали, а уж 27-го, когда узнали: царь в себя не пришёл, — закипели два котла, варя, каждый по-своему, ахти крутую кашу, а имя ей — власть.
Один-то котёл пузырями булькал в покоях царевича Ивана, у него прав на шапку Мономаха было побольше — старший из Романовых, шестнадцатый год. Петру — десяти нет, сын от второго брака.
Царевна Софья Алексеевна тормошила Милославских, Собакиных, Хитрово. Посланы были в стрелецкие полки проворные люди — поить-кормить, рубликами поманивать.
Глава рода Милославских боярин Иван Михайлович, испытавший на себе, сколь велика ненависть к неумеренным властолюбцам, дворцовой суеты остерёгся, но огромную дворню вооружил и тайно передал стрелецкому генералу Матвею Кравкову три тысячи рублей. По пяти рублей на стрельца, остальное начальным людям и ему, Матвею.
Возле Петра Алексеевича и матери его Натальи Кирилловны тоже собирались сильные люди. То были святейший патриарх Иоаким, князья Долгорукие, Одоевские, боярин князь Фёдор Троекуров, окольничий князь Константин Щербатов, печатник Дементий Башмаков...
Царь Фёдор Алексеевич ещё духа не испустил, а Софья, потерявшая терпение и стыд, прислала к патриарху думного дьяка Фёдора Шакловитого.
— Беда, святейший, стрельцы своих начальников грозят перебить! — Шакловитый промокал платком лоб и шею, изображал великое беспокойство. На самом-то деле страшился сказать, с чем царевна прислала, чего сам желал до дрожи в груди. — Святейший! Дабы пресечь смуту, поспешить бы с наречением на Российское государство, в цари, государя Ивана Алексеевича!
— Есть у нас царь! — Патриарх на Шакловитого даже не глянул. — А кто забыл, напомню: имя самодержцу — Фёдор Алексеевич.
— Смотри, мудрец, не прошибись! — Думный дьяк ударил словом, как ножом, но ушёл-таки ни с чем.
В тот горький час о царице, о Марфе Матвеевне, — забыли. Возле неё остались одни её братья, юное племя Апраксиных — род старый, да маломочный, ничего не успевший в свой звёздный час.
Тело Фёдора Алексеевича было ещё тёплым, когда Петра привели в царские хоромы.
Его окружали князья Долгорукие: Яков, Лука, Борис, Григорий, а впереди шествовали дядька князь Борис Алексеевич Голицын и брат его Иван. Собирались посадить царевича хоть с боем, но никто им не перечил.
Посадили, а костяной стул — велик, ноги отрока до пола не достают. Палата огромная, кругом пустота, золотая толпа перед троном, многоглазая, молчит.
Но быть в одиночестве долго не пришлось. Появились слуги с другим троном, а за троном в палату вошли Милославские, Хитрово, Собакины — привели царевича Ивана.