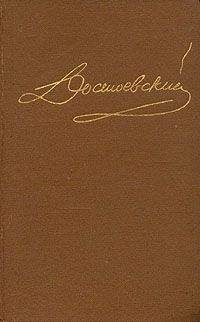Михаил Филиппов - Великий раскол
— Что это тебе вдруг вспомнилось, племянник, — шутливо проговорил Урусов, — али княжна тебе в самом деле зазнобила сердце?
Иван Глебыч нерешительно заметил:
— Княжна княжной, дядя, о матушке скучаю; ее мне вызволить хотелось бы скорей.
— Ты добрый сын, Иван! Коли мне удастся тебя на Пронской сосватать, надеюсь, что царь помилует обеих сумасбродок.
Племянник низко поклонился дяде и, еще раз напомнив ему о своей просьбе, отправился домой. После его ухода князь оставался некоторое время в раздумье и затем отправился из дому.
Хотя он и глубоко сомневался в успешности предложенного им сватовства, но он все-таки хотел исполнить данное им племяннику обещание.
Дом князя Пронского находился не близко и, усевшись в расписные сани, Урусов отправился на лошадях к нему.
Неожиданный приезд князя Петра встревожил весь дом Пронского.
— Уж не послом ли едет он от государя? — строил предположения хозяин.
Заскрипели ступени крыльца под тяжелыми шагами прибывшего.
Князь Иван Петрович поднялся к нему навстречу.
Оба князя троекратно обнялись.
Обычай того времени не позволял сейчас-же приступить к разговору, ради которого Урусов сюда приехал.
Поговорили о делах московских, о том, о сем. Хозяин велел подать меду и выпил вместе с гостем по стопе.
— Послушай, князь Иван Петрович, — решился наконец выяснить цель своего приезда Урусов, — имею к тебе великое дело.
Хозяин насторожился.
— Рад тебя слушать князь, сказывай про дело твое важное. Гость в коротких словах, но толково, пояснил хозяину о сватовстве племянника.
Сосредоточенно выслушал последний его и ответил:
— Ты прав, это дело важное, подумать надо!
XX
На другой день после допроса в подклеть, в которой были посажены узницы, явился думный дворянин Илларион Иванов.
— Как почивать изволили? — насмешливо спросил он, — поди, райские сны снились? Аввакумку пса во сне видели?
У Морозовой готово было вырваться резкое елово, но удержалась.
— Отвечать мне не хочешь, кичливая? Ин будет по твоему, помолчим!
И думный дворянин вышел из подклети. Немного спустя он вернулся туда вместе со стрельцами, которые несли два стула с цепями.
— Вот вчера, боярыня, не хотела ты на ногах стоять, больные они у тебя, — снова обратился Илларион к Морозовой, — ноне мы твое желание уважили: стульцы для вас обеих приготовили, да еще какие! Смотри-ка, чтобы не свалились вы с них, цепочкою шею поприхватим, — не опасно будет!
Федосья Прокопьевна, не вздрогнув, посмотрела на цепи и, истово перекрестясь двухперстным крестом, поцеловала железо, промолвив:
— Слава Тебе, Господи, яко сподобил узы возложити на себя!
Стрельцы, сняв оковы с ног обеих узниц, стали заковывать железо вокруг шеи.
Сестры повиновались, помогая накладывать тяжелые узы.
Стрельцов поражала покорность молодых женщин. Многие из стрельцов были последователями Аввакума и неохотно исполняли приказ.
Обеих женщин вынесли прикованных к стульям на стоявшие у входа в подклеть дровни и положили на солому.
Прежде, чем выехать со двора, дровни пропустили мимо себя парадную карету Морозовой, запряженную по обыкновению двенадцатью конями. Спустившись с красного крыльца, поддерживаемый под руку старым служителем, в карету поместился сын Федосьи Прокопьевны, Иван Глебович. Он ехал во дворец по желанию государя, противиться которому он не желал: напротив, он даже стремился скорее свидеться с царем-батюшкою, чтобы попросить его за свою мать.
О том, что она лежит рядом, скованная на дровнях, юноша не знал.
Молодой Морозов полагал, что его поездка во дворец связана с освобождением матери и тетки, а также со сватовством к княжне Пронской. «Спасибо дяде, князю Петру, — думал он. — Не забыл своего обещания».
Старый служитель, усадив боярина в карету, вскочил на узкую доску, тянувшуюся по обеим сторонам полозьев, и крикнул вознице:
— Под царские переходы…
Сытые кони дружно подхватили тяжелый экипаж и вынесли его из ворот.
Около кареты побежала толпа челядинцев, неизбежная принадлежность выездов богатых вельмож того времени.
Стоявшие у ворот любопытные поглазели на роскошный выезд, погуторили о нем и уже хотели было расходиться по домам, как вдруг заметили дровни, выехавшие следом за экипажем.
— Э, да никак Морозовских стариц к допросу везут! — крикнул кто-то из толпы.
Дровни, скрипя на повороте полозьями, выкатились на узкую улицу.
Обе сестры не скрывали своих лиц и смело глядели на народ. Морозова, высоко подымая персты правой руки, сложенные по-староверски, и звеня цепями, громко говорила:
— Тако надлежит креститися!
— Ой, да никак это самое боярыню повезли! — раздались голоса среди толпы. — Бедная! Как страждет ради веры истинной, православной!
XXI
Вызов молодого Морозова во дворец никак не был связан с князем Петром. Князь Урусов и не заикнулся царю о племяннике.
— Жалко мне сына моего верного слуги Глеба Морозова, — сказал Алексей Михайлович боярину Матвееву, — почто погибать ему ради безумств его матери? Приближу к себе, а там за годами може и на воеводство куда-нибудь ушлю, ежли разум выкажет!
Царь задумался.
«Кто знает, может быть, на меня глядя, и эта гордыня кичливая образумится», — подумал он о Федосье Прокопьевне.
В те времена по дворцовому этикету царю оказывали особенный почет.
Приезжавшие подходили ко дворцу пешком, оставляя лошадей и экипажи довольно далеко от входа. Многие из простых малочиновных людей, еще издали завидя царское обиталище, снимали шапки и, таким способом «воздаючи честь государю», проходили мимо.
Особенно строго воспрещалось проезжать под каменной преградой, где находились царские переходы.
«С площади никого не пущать, о том караульщикам приказать накрепко», — гласили тогдашние приказы. — «Переходы с дворца на Троицкое подворье запереть и никого в те двери и на переходы без государского шествия и без именного указа не пропущать, но тот приказ с великим подкреплением детям боярским, истопникам и сторожам, которые стоят в том месте и у светлишной лестницы. Дворовых людей, как их позовут в «верх», за столовым и вечерним кушаньем к царице и царевнам пропущать на светлишную и на каменную лестницы за все преграды»…
И, несмотря на всю строгость указов, государь высказал свое желание, чтобы парадный поезд с молодым Морозовым остановился у этих переходов, а дровни с самой боярыней и ее сестрою были провезены под ними.
Алексей Михайлович желал сам лично посмотреть на униженную Морозову, хотел, чтобы она почувствовала стыд и раскаяние, когда ее с великим бесчестием провезут по тем улицам, где еще недавно она ездила с превеликою честью!
Не скоро оба поезда, парадный с Иваном Глебовичем, да позорные дровни с униженною его матерью, добрались до дворца.
Как только разошелся слух по Москве, что «добрую боярыню для ради ее твердого стояния за древнее благочестие» с позором повезут по улицам, громадная толпа народа теснилась вокруг ее дровней, выражая ей свое соболезнование и участие. Бесчестие боярыни Морозовой и ее сестры доставило укреплявшемуся расколу еще более приверженцев. Никогда фанатическая брань Аввакума или его сотрудников не привлекала столько поборников и радетелей к двухперстому перстосложению, к сугубой аллилуие и прочим разностям необразованных последователей раскола.
Преследование Морозовой было ошибкою со стороны царя.
Наконец, морозовская карета приблизилась к Кремлю; невдалеке за нею тащились дровни с узницами.
— Скажи позадержать маленько дровни-то! — приказал Алексей Михайлович.
Из подъехавшей к переходам дворца кареты вышел, ведомый под руку слугою, молодой Морозов.
Он робко огляделся вокруг и, предшествуемый внутренней дворцовой стражею, состоявшею из стольников, стряпчих и низших служителей, вступил в царские покои.
— Великому Государю доложено будет о тебе, Иван Глебович, — сказал стольник Хитрово, — обожди!
Юноша послушно последовал за своим вожатым в сени.
Государь не желал, чтобы молодой Морозов увидел, как повезут его мать под Кремлевскими переходами.
Сам Алексей Михайлович вошел на один из переходов и сделал жест рукою, чтобы дровни с узницами везли дальше.
С сожалением взглянул он на прикованных к стульям сестер. Он вспомнил в эту минуту о том высоком положении, какое еще недавно занимали обе сестры при дворе, и на глазах царя показались слезы.
— Сумасбродки! — прошептал он.
Морозова, заметив царя, стоящего на переходах, снова высоко подняла правую руку с двухперстным крестосложением и, потрясая звенящими цепями, закричала: