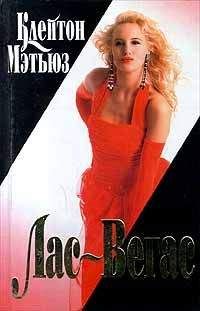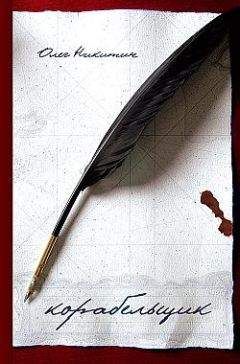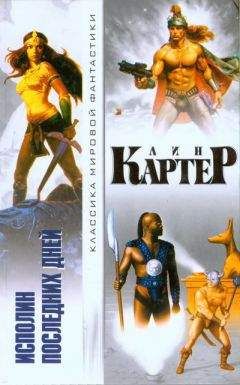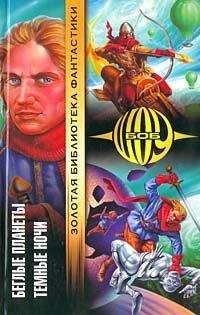Владислав Бахревский - Столп. Артамон Матвеев
В спальники и стольники Фёдор Алексеевич пожаловал в тот день родственника Марфы Матвеевны Степана Богдановича Ловчикова и родных её братьев: Петра, Фёдора, Андрея. Из малоизвестных дворян Апраксины разом вышли в ближние люди великого царя.
Ещё через день, 23 февраля, утром, Фёдор Алексеевич в Золотой палате отпускал крымских послов, а после отпуска в Столовой палате был у него свадебный пир.
Свой стол имела в этот же день и царица Марфа Матвеевна. Женщины угощались в государевой передней, а у стола стояла крайчая Анна Петровна Хитрово, всем царицам пригодная.
Праздновали в последний день Мясопустной недели. На Масленицу пришлось заняться делом нерадостным.
В новые города и деревеньки на Изюмской оборонительной черте хлынули из России толпы крестьян. Оставляли прежних своих хозяев, нищету дворянскую, но и в изюмских городах не задерживались долго, уходили в Дикое поле. Объяснял царю о причине побегов стольник Григорий Касогов, строитель Изюмской черты. Сказал как есть:
— Люди уходят из новых крепостей от воеводского крохоборства — без милости дерут.
Доложил Касогов и о крестьянах, переловленных воинскими отрядами, спрашивал, что делать с беглецами.
— Возвращать хозяевам, — решил Фёдор Алексеевич. — По двое от каждой толпы повесить. Остальных бить кнутом.
Самого Касогова наградил серебряным кубком, прибавкой к окладу. Новая оборонительная черта от Верхнего Ломова на Сызрань строилась прочно и споро.
— Через год, через полтора — всё будет завершено, — пообещал царю Касогов.
О сих делах Фёдор Алексеевич рассказал Марфе Матвеевне. Царица испугалась:
— Зачем ты, государь, вешать беглецов приказал?! Чай, не разбой! От худых хозяев животы свои спасали.
— По двое всего! — нахмурился Фёдор Алексеевич.
— А двое-то... не люди? Не христиане православные? — Марфа Матвеевна стояла перед мужем, опустив руки, поникнув плечами.
— Милая ты моя! — усадил жену на скамейку, сел рядышком, за плечико потянул, чтоб распрямилось. — Мы — цари! Сё наша доля — казнить злодеев. Никуда от этого не денешься: всё худое в царстве — на царской совести. На моей, на твоей. Попробуй погладь мужиков за дурости — к тебе же и влезут в спаленку с топорами.
— А пожалеть-то хоть кого-то можно? — спросила Марфа Матвеевна.
— Можно, — сказал Фёдор Алексеевич. — Можно! Нас с тобой пожалеть некому.
Через несколько дней порадовал царицу перед сном:
— Сегодня указал две шпильни ставить.
— Шпильни? Что сие? — не поняла Марфа Матвеевна.
— Богодельни. Одну в Знаменском монастыре, на Варварке. Сие место для Романовых родовое. Мой дедушка, царь Михаил Фёдорович, на Варварке родился. Иван Михайлович Милославский братские корпуса нынче там поставил, пусть и богадельне найдёт место. А другую будут строить за Никитскими воротами, на Гранатном дворе.
— А кто станет кормить убогих да немощных?
— Ах ты моя заботливая. На пропитание старцам и старицам я вотчины отписал. Для лечьбы будут приставлены к ним дохтур, аптекарь, лекарей человека три-четыре. Уберу нищих с улиц. Убожество для стольного града — позор.
Марфе Матвеевне этакий указ супруга пришёлся по сердцу. Пообещала:
— Буду наведываться в... шпильни. Пусть насельники их забудут о холоде да о голоде... Хоть в старости хорошо поживут.
Милая жёнушка тоже радовала Фёдора Алексеевича, приметил, сколь она любознательна и к наукам прилежна. Со вниманием разглядывала гравюры, изображающие иноземные города, дворцы, замки. Бралась читать мудреные книги.
Спросила однажды:
— Государь мой, Фёдор Алексеевич! Вчерась мы поспорили с твоей сестрицей, с Софьей. Она говорит: эллины жили в Древней Греции от века, ибо Эллин сын Девкалиона, а Девкалион пережил Потоп. Но Фукидид иное утверждает. Гомер-де не зовёт воинов Агамемнона эллинами, но именует данайцами, аргивянами, ахейцами.
— Знала бы ты, с каким приятствием слушаю твои рассуждения! — Фёдор Алексеевич обнял драгоценную супругу, расцеловал в щёчки. — Я заказал отцу Сильвестру Медведеву составить «Учение историческое». Учёные мужи пусть перечтут книги Геродота, Фукидида, о котором ты говорила, Аристотеля, Платона, Дионисия Галикарнасского да и напишут самую верную историю древности. И Цицерона пусть прибавят, Тацита, Полибала.
— А когда же академия-то откроется? Я ведь читала твой указ. Подобно царю Соломону, устроившему семь училищ, мы, великий государь, устраиваем в Заиконоспасском монастыре храмы чином академии и в оных семена мудрости: науки гражданские и духовные — начиная от грамматики, пиитики, риторики, философии разумительной... ещё чего-то и до богословия...
— Риторики, диалектики! — подхватил Фёдор Алексеевич с жаром. — Учения правосудия, духовного и мирского! Прочие свободные науки... Академию я бы хоть завтра открыл. Увы! К восточным патриархам за учителями давно уж поехали, а никого ещё нет. В училище при типографии набрано тридцать учеников, учителей же нашли токмо двоих, кои знают греческий...
Фёдор Алексеевич подошёл к столу, взял из хрустального кувшинчика изумрудное перо селезня. Подбросил, подул на него и смотрел, как опускается, крутясь.
— Какая красота! — И поцеловал Марфу Матвеевну в височек. — Умница ты моя. Будет у нас академия! В нынешнем уже году ей быть. На содержание учителей и учеников я приписал и сам Заиконоспасский монастырь, и обитель Иоанна Богослова в Рязани... Стромынский Троицкий Московского уезда, Николаевский Песножский, что под Дмитровом, Борисоглебский, Чугуевский. Все монастыри с угодьями, с крестьянскими дворами. Для жилья учёным людям даю Данилов монастырь, сей же братии и Андреевский на Москве-реке. Его для учёных богословов да для регентов Фёдор Михайлович Ртищев на свои деньги поставил. От себя ж, от царского дома нашего, выделяю академии Вышегородскую волость и ещё десять пустошей в разных местах...
Марфа Матвеевна опустила глазки.
— Ко мне уже приезжали, просили за домашних учителей... Чем учителя-то не угодили?
— Все заезжие иноземцы — лютеране, и хуже того — иезуиты. Вместо распространения учёности — ереси расползаются. К хулителям православия милосердия от нас не будет. На костёр!
Марфа Матвеевна поморгала глазами и сказала, сглатывая слёзку:
— Я тебя всякого люблю, но когда ты добрый, сердечко у меня песенки поёт...
Фёдор Алексеевич погладил царицу по шейке:
— Милая ты моя! Любосердая! Ну, что ты? Слава Богу! Никто ещё в моё царствие не сожжён. А чтобы сердечко твоё песенки пело, пригласил я Ивана Васильевича Бутурлина вечерок с нами покоротать.
Боярин Бутурлин, назначенный воеводой Великого Новгорода, недавно прибыл из Парижа. Ездил к французскому королю Людовику XIV сообщить о восшествии на престол Московского царства великого государя Фёдора Алексеевича.
Бутурлин явился в государевы комнаты во французском, шитом золотом камзоле, в парике! Привёз в подарок картину, на которой были изображены французские дамы перед зеркалом. Затянутые в корсеты, в париках, в лицах томность, манящая загадочность.
— Все ихние бабы — великие притворщицы! — объяснил картину боярин. — В зеркале-то, видите, личины у них иные. Будто кошки друг на друга таращатся.
Рассказал Иван Васильевич о Версальском дворце, о фонтанах в огромном парке, о Большом канале. О трёх дорогах, лучами исходящих от королевских палат, яко от солнца. Видел боярин в Париже диво дивное, возили его в обсерваторию, и здесь, через большую трубу со стёклами, называемую телескоп, — взирал он на планиду Венеру. Однако ж более всего Бутурлин хвалил огромные картины в дворцовых залах.
— Сие заведение у них италийское. От тех картин — царям слава, а народам — свет просвещения!
После разговоров с боярином-парижанином и Фёдора Алексеевича потянуло иконы да парсуны глядеть. Сначала подвёл Марфу Матвеевну к Владимирской Богоматери с праздниками.
Мафорий[57] у Богородицы был нежно-вишнёвый, почти прозрачный, с золотыми проблесками.
— Иван-то Васильевич про свет просвещения, а ты, Марфушка, погляди-ка на Пресветлый лик. Умиление, печаль, забота. Перед сей иконой — душа настежь растворяется, а поплакать — так и сладко. Прокопий Чирин писал, устюжец. — Показал на длань Благодатной, тянущуюся к ручке Богомладенца. — Марфушка! Ты гляди, персты-то ведь светятся.
— А пяточка-то у Христа! — растрогалась Марфа Матвеевна. — Пальчики-то, пальчики!
— К такой иконе приложишься — и чист. Всё худое вытряхнется с души, как пыль из мешка... А сия икона двух братьев, Егора да Федота. «Иоанн Предтеча — ангел пустыни с деяниями». Оклад младшего, Федота. Видишь, шестикрылые серафимы, звёзды, луна, солнце. Перья-то на крыльях Иоанна — изумрудом отливают. В клейма вглядись. Вон Рождество Крестителя. Будто солнце в глазах от пелёнок. А какие краски взяты. То ли розовое с алым, то ли золотое с лепестками живыми.