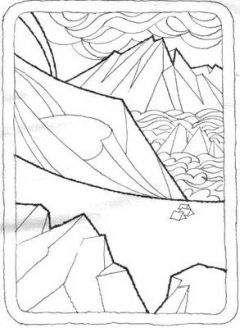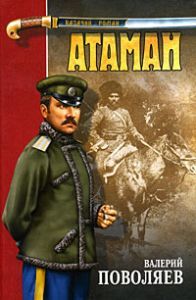Бурсак в седле - Поволяев Валерий Дмитриевич
Китаец не выдержал первым — нахлобучил на грязный платок лист папоротника, вздернул над травой голову — похоже, посчитал, что этот прилипчивый русский уже растворился, — и был неправ, Калмыков плавно нажал на спусковой крючок карабина.
Звук у карабина бывает оглушающее громким, как у очень серьезного оружия, человека может сдуть даже ветром, приклад вновь больно лягнулся, и в то же мгновение с китайца слетела папортниковая ветвь, а он ткнулся лицом в землю.
Калмыков был доволен выстрелом, произнес удовлетворенно:
— Однако!
Осталось достать последнего. Калмыков выругал себя — слишком долго он сидит на одно месте, отполз на несколько метров в сторону, стараясь не задевать за низко растущие ветки, втянул тело в свободное пространство за густым кустом лимонника, осмотрел местность.
Четвертого хунхуза не было видно, и примет, что он никуда не утек, тоже не было. Неужели ушел? Это надо было проверить.
Птицы заголосили сильнее, на все лады; даже кукушка, которая в здешней тайге — гостья редкая, она в глухие места вообще старается не забираться, ей там неуютно и скучно, человека эта рябовато-серая птица тоже особо не привечает, словно боится сглаза, — вплела свой голос в общий хор и смолкла.
— Кукушка, скажи, сколько лет мне осталось жить? — шепотом, который он и сам не услышал, спросил подъесаул, замер на несколько мгновений, потом униженно попросил: — Не жмись, кукушка, выдай мне, что положено по норме. И сверх нормы… Не скупись, кукушка.
Хоть и не услышал Калмыков собственного шепота, а кукушка услышала, вскинулась где-то в густоте деревьев и выкрикнула громко, словно бы давясь собственным голосом, через силу:
— Ку-ку! — и тут же поперхнулась, смолкла.
Калмыков недоуменно сморщил губы:
— Ты чего, дура? Давай еще, давай! — Он вновь не услышал своего шепота. — Ну! Давай!
Кукушка молчала, упрямая. Калмыков ощутил, как внутри у него рождается раздражение, что-то хваткое, холодное начинает цеплять его за сердце, будто бы внутри поселился некий здоровенный паук, пробует сейчас живую плоть Калмыкова, впивается в нее зубами — то в одном месте надкусит, то в другом… Так ведь и сердце может остановиться.
— Ну, кукушка! Тебе что, жалко? Одного года мне мало. Добавь еще годков тридцать! Ты слышишь меня?
Кукушка слышала Калмыкова, но продолжала молчать.
Из-за макушек деревьев принесся тихий шелестящий ветер — словно бы с того света приволокся, пригнул макушки трав, разгреб спутавшиеся стебли шеломанника, растущего буйно, будто борода у сибирского кучера, медвежьих дудок и полыни — серой, густой, остро щекочущей ноздри своей горечью. Над полынью даже комары не вились — избегали ее писклявые. Станичные бабки считали, что от этой полыни даже нечистая сила в обморок хлопается, и прибивали на Троицу к дверям вместе с березовыми ветками и былками чертополоха; влетев в такой дом, нечистая сила по полу катается, а сделать ничего не может…
Пробежавшись по пади, ветер вернулся, сделал еще один облет владений и стих. Наступило время жары, из-под фуражки у Калмыкова мелким свинцовым просом посыпались капли пота.
— Ну, кукушка, подай свой голос еще раз, продли мне жизнь… Ну!
Кукушка продолжала молчать.
— Й-йэ-эх! — с досадой вздохнул Калмыков и, отвлекаясь от кукушки, подумал, что четвертый китаец все-таки благополучно уполз из пади. Вот только как он умудрился это сделать, как остался незамеченным? Калмыков продолжал лежать не шевелясь — обратился в камень, в дерево, стал частью этой тайги.
Сколько Калмыков ни бывал в уссурийских чащах, а никогда не переставал им удивляться, не переставал учиться у матушки-природы — то маскировке, то умению добывать воду в безводную пору, то способности рождать огонь из ничего, то лечить всякое живое существо, не имея лекарств, то еще чему-нибудь, — тайга учила людей, умела это делать, и на что уж подъесаул не был способен к учебе — так он считал сам, и то очень многое сумел взять у нее. И костер без спичек разжечь умел, и суп сварить без мяса и приправ, и болезни лечить без госпитальных снадобий, и шкуры убитых зверей выделывать так, чтобы из них не вылезал волос — без всяких препаратов и порошков, и одежду чинить без иглы и ниток…
Неужели последний китаец все-таки утек? Жаль. Надо было этого живоглота, истязателя природы, припечатать… До чего докатились нелюди — отрезали живому медвежонку лапы. Четверо на одного, по лапе на человека. Тьфу! Жаль, не встретилась им мамаша этого искалеченного звереныша. Тогда бы они от нее даже на бронеавтомобиле не ушли, она бы не дала…. Калмыков сдул с носа какую-то наглую козявку и хотел было привстать — слишком уж у него занемели мышцы, подтянул к себе длинную лысую прутину — у нее не только все сучки, даже все почки сгнили, надел на нее фуражку и приподнял над кустом.
В то же мгновение на противоположной стороне пади громыхнул выстрел. Застойный воздух шевельнулся, будто подстегнутый бичом, и пробитая пулей фуражка полетела в траву.
Калмыков привычно сжался, словно бы сидел в окопе, делаясь все меньше в объеме. Такое почти всегда бывает с людьми на фронте, если они попадают под обстрел — каждая клеточка хочет сделаться меньше, усохнуть, сжаться; внутри возникает противный холод, — потом все это проходит… В конце боя люди вспоминают такие превращения с досадой…
— Сука! — запоздало выругался Калмыков. Холодок нервной оторопи прошел.
Опытный вояка, подъесаул много земли и горелого пороха стрескал на фронте, был терт-перетерт, а чуть не подставил собственную тыкву под китайскую пулю, чуть не лег в уссурийском перегное вместе с тремя узкоглазыми. Тьфу!
Он подтянул к себе фуражку. Фуражка была испорчена так, что чинить ее было уже бесполезно: из мелкой тульи даже желтоватая тощая вата полезла, верхняя часть кокарды была отколота выстрелом, околыш разодран, из него также торчали вата и обрезки обгорелых ниток. Калмыков стиснул зубы и угрожающе прошептал:
— Ну, погоди, сука! Я тебе сейчас покажу, как рак умеет свистеть на самой высокой горе в здешней местности… Погоди!
Переместился на несколько метров в сторону, заполз за куст и замер.
С той стороны вновь прогремел выстрел — китаец был опытным охотником, засек змеиный шорох и треск нескольких веток, которые раздавил подъесаул, всадил еще одну пулю в куст, за которым еще полминуты назад сидел Калмыков, вторую пулю — неприцельно, наугад, — послал в траву. Она прошла совсем недалеко от Калмыкова, но он совершенно не обратил на нее внимания — это была не его пуля.
— Погоди, сука! — прежним угрожающим шепотом пробормотал подъесаул.
Он попытался понять, где конкретно сейчас находится китаец, за каким кустом затих, к какому бревну приклеился, в кого конкретно вырядился — в зайца или енота, обратился в лопух или в смятый кленовый лист, — такие умельцы, приходящие с той стороны реки Суйфун, имеются в достаточном количестве. Даже еще более хитрые и опытные. У себя дома каждую былинку, каждый кусок навоза берегут, без разрешения боятся рвать даже крапиву, растущую на обочине дорог, а здесь им все трын-трава, под каждый корень всаживают лопату и выворачивают его наизнанку…
Китаец не подавал признаков жизни. Будто умер.
Но ведь только что громыхнул его выстрел — только что… сидит жук где-то рядом, усами шевелит, глазами вращает, а вот поди, засеки его…
Нет китайца. Калмыков внимательно, останавливая взгляд на каждой подозрительной щепке, на каждом пеньке, прошелся глазами по противоположной стороне пади, ничего не пропуская, изучая каждую мелочь, каждую примятость травы, каждую выдавлину в старом поваленном стволе, на котором хунхузы сидели, но ничего не нашел и помрачнел. Не было ни одной живой метки, за которую можно было бы ухватиться и понять, где конкретно находится китаец.
Тяжелая, будто налитая металлом трава, над которой вьются комары и мухи, застывший воздух, превратившийся в желе.
Началось состязание на измор, борьба: кто кого возьмет? Кто окажется наверху, можно было только гадать. У кого нервы окажутся крепче, а задница мясистее, тот свое и возьмет… А соперник останется в этой пади кормить червяков.