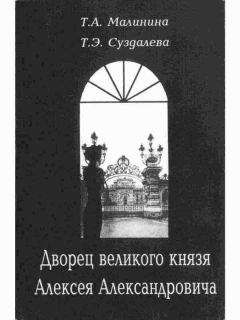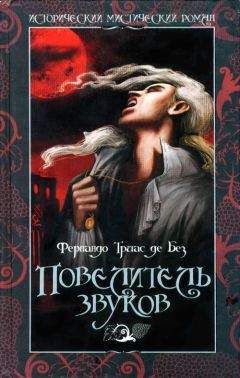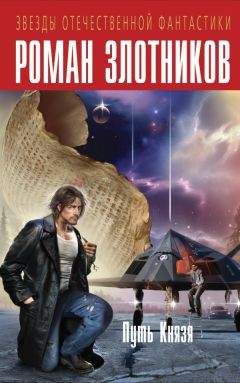Фернандо Триас де Без - Повелитель звуков
Я поднялся с постели и принялся расхаживать по комнате из угла в угол, пытаясь унять нахлынувшую тревогу. Где находится этот звук, которого я лишен? Почему я до сих пор не завладел им?
От страха у меня свело желудок. Мне не хватало звука! Что это за звук? А что, если он избегает меня? Что, если я умру, так и не овладев им, или, что еще хуже, мне придется жить с постоянным ощущением голода? Мое самолюбие, самолюбие повелителя звуков, было уязвлено. В ту ночь я дал себе слово, что переберу по частичкам все звуки мира, что буду искать самый совершенный звук и найду его, и даже смерть не сможет меня остановить.
Так я превратился в раба собственной власти. Днем и ночью, даже во время сна, мой мозг не прекращал работать, препарируя любой, даже самый ничтожный звук, достигавший слуха. Стоило мне заслышать шаги наверху, голос внутри подсказывал мне: так звучит подошва, а так – кожа ботинка, вот дрогнули дубовые доски пола, вот посыпался засохший клей, вот заскрежетали ржавые гвозди, вот хрустнул треснувший мебельный лак. «Ничего нового, Людвиг, – говорил мне внутренний голос, – совсем ничего; эти звуки тебе хорошо знакомы. Успокойся». Тогда напряжение спадало, и я мог перевести дух. Но отдохновение длилось недолго: раздавался новый звук и я, не щадя себя, вновь брался за работу, надеясь найти в нем крупицы совершенства.
Так я и жил, отец, – вскрывал созвучия, расчленял голоса, смешивал, менял местами элементы, бросая в один котел шумы, грохоты, всхлипы. Ни чревоугодие, ни сладострастие не могут сравниться с тем упоением, с которым я препарировал звучание земли. Поиски самого совершенного звука превратились в болезненную одержимость. Ничто не должно было проскользнуть мимо моего слуха – любой шум мог таить в себе ту самую неведомую гармонию. Одна оплошность – и я навсегда потеряю то, чего так и не познал. Жизнь моя превратилась в кромешный ад без надежды на спасение; я жил в постоянной муке, в одном кошмарном сне, потому что внутри меня, в водовороте звуков, отдаваясь в висках гулким эхом, росла и ширилась бездна: у меня не была звука, за который люди продали бы душу дьяволу; того, что дает жизнь всем другим звукам. Овладев им, я получил бы ключ ко всем тайнам мироздания.
5
Так прошел год, и однажды я почувствовал, что неистовая страсть, заставлявшая меня поглощать и переваривать все, что я слышал, вот‑вот сведет меня с ума. Я слишком долго препарировал звуки и заразился недугом, которым страдают чревоугодники, когда после обильного пиршества желудок не в силах переварить все и пытается извергнуть то, что было съедено.
Однажды теплым мартовским днем я вернулся домой под вечер, шатаясь, словно пьяный, поднялся по лестнице и заперся в спальне. Меня бил озноб, желудок болел. После нескольких месяцев пожирания звуков я желал лишь одного – извергнуть их обратно, но мне не хотелось делать это в окружении домочадцев. Мне нужно было остаться одному. Я открыл окно и выбрался на воздух. Не обращая внимания на подкатившую к горлу тошноту, добрался до фасада и взглянул вниз. Голова кружилась, мне захотелось вернуться в комнату, но, собравшись с последними силами, я дополз до печной трубы, упал на черепичную крышу и потерял сознание.
Я очнулся лишь спустя несколько часов – меня разбудили крики родителей. Заметив мое отсутствие, продлившееся дольше обычного, они стали звать меня, но я не мог ни подняться, ни ответить им. Я продолжал лежать на крыше, острые черепки впивались в тело, руки и ноги онемели. Я слышал, как мои родители беседовали с судебным исполнителем, которого они вызвали, чтобы сообщить о моем исчезновении. Слышал удрученный и надтреснутый голос отца, доносившийся из жерла трубы. Я попытался встать, но ноги не слушались меня. Я вновь заснул или, может быть, лишился чувств – не знаю. Прошло еще какое‑то время, и я проснулся от собственных конвульсий. Близился рассвет. Я был переполнен, как большой кувшин, в который до краев налили воду. Мне нужно было освободиться от того, что скопилось внутри. Я открыл рот, но изо рта вырвались не остатки пищи, а… звуки. Целый час живот сводило ужасными судорогами, вызывающими приступы рвоты, и я исторгал скрежещущие, царапающие слух шумы, а потом чувство пресыщенности исчезло, мне стало легче. Но там, внутри, оставалось еще слишком много. И тогда я сам стал вызывать спазмы. Я напряг мышцы живота, глотнул воздуха, открыл рот, и из моего нутра вырвался звук. О, отец, вы даже не представляете, как я обрадовался этому открытию! Теперь я мог подбирать и воспроизводить звуки, жившие в моем чреве. Великая сила наполнила каждую клетку моего тела. Дрожь прекратилась, и понемногу хорошее самочувствие вернулось ко мне. Я продолжал исторгать звуки: о, то была ужасная какофония! Любой, кто услышал бы меня в этот момент, наверное, перепугался бы до смерти или счел бы меня сумасшедшим. И тогда я принялся претворять эти шумы в дивные созвучия, обтесывать их подобно тому, как скульптор обтесывает мраморные глыбы. Я поднялся на ноги, лаская бесформенные шумы мира голосовыми связками, и внезапно из моей гортани полился необычайно чистый звук. Я попытался еще раз – и снова удачно. Звук выходил наружу не таким, каким вручила его мне мать‑природа; я сорвал с него затвердевшую корку, шлифовал, превращал в великолепный ограненный бриллиант. Я, Людвиг Шмидт фон Карлсбург повелевал звуком. Результат оказался невероятным: шумы превращались в ноты, но это были не простые ноты, они сохраняли сущность звуков, от которых происходили. Прелестные венецианские маски, скрывающие безобразие лиц. Нет, в них не было фальши, отец, так как фальшь – дурная копия реальности, а я мог взять любой звук и, смешав с другими звуками, жившими во мне, воспроизвести его в той же первозданной чистоте… Звуки превращались в музыку.
Я спел веселую песню. Для этого я вплел в тихое журчание ручейка звонкий смех девушек, радостный свист крестьянина, возвращающегося домой с полей. Все звуки, вырываясь из моей утробы, резонируя в связках, рождали мелодию, от которой ноги сами пускались в пляс.
Потом я обратился к песне, которая должна была пробудить нежность. И тут же нашел внутри себя мурлыканье спящего кота, потрескивание дров в огне, шуршание одеяла, которым укрывают младенца. Собрал их воедино, украсил и выпустил на свободу; они вырвались наружу, породив мелодию, способную заставить плакать от умиления самого жестокосердного из людей.
Мне захотелось сочинить военную песню. Я вплел в нее нетерпеливый цокот конского галопа, звон мечей, грозовые раскаты, приласкал их своим горлом и породил самый бодрый марш, который когда‑либо раздавался на этой земле.
Потом я пожелал исполнить грустную песню и взял частое постукивание дождя, монотонный плач скрипичной струны, скорбное эхо похоронной процессии… Звуки, проходя через горнило моего голоса, способны были навеять печаль даже завзятым зубоскалам.
Не только мои родители, но и все, кто жил на Йозефшпитальштрассе проснулись, разбуженные божественной музыкой. Мальчик, сидя, словно заблудший кот, на черепичной крыше, под желтым серпом полумесяца, напевал мелодии, от которых замирало сердце и тревожился дух. Город просыпался. От улицы к улице, от квартала к кварталу зажигались лампы и свечи, и вскоре во всех окнах баварской столицы горел свет. Тысячи горожан обращали свой слух к черепичной крыше, внимая восхитительному пению. Весь Мюнхен, плененный моим голосом, в один миг превратился в город лунатиков.
Мужчины и женщины, старики и дети, здоровые и больные, клирики и миряне затаили дыхание, с восхищением слушая мой голос – самый нежный, самый совершенный из тех, которые им когда‑либо доводилось слышать.
Какое блаженство! Какое волшебное чувство! В нем соединились власть и одиночество. Оно даровало мне высшую свободу. Отныне я не принадлежал звукам – звуки принадлежали мне!
В ту ночь в Мюнхене не осталось никого, чьи глаза не увлажнились бы от слез, чьи щеки не пылали бы румянцем. Все души слились в едином порыве. Казалось, еще немного – и земля содрогнется от нахлынувшего чувства. Лишь один звук, одна‑единственная нота не коснулась их слуха – та, которой у меня не было.
Когда я закончил петь, на горизонте на два часа раньше обычного появилось солнце и остановилось, позволив времени догнать себя. Не было слышно ни пения птиц, ни крика петуха, обычно первым приветствующего утреннее светило. Люди, зевая, разошлись по кроватям и вскоре погрузились в глубокий сон, но и во сне им слышалось чудесное пение. Наверное, и это видение стерлось из их памяти, и они забыли, что им так и не открылся звук звуков. Лишь забвение могло спасти их от безграничной грусти, что свивает гнездо в сердце человека и высасывает из него жизнь.
6
Теперь, когда мой голос обрел способность претворять звуки в ноты, окружающим оставалось только изумляться. Никто не обучал меня пению, никто не ставил мне голос и не объяснял, как правильно дышать. Это знание дремало где‑то глубоко во мне и теперь проснулось. Я мог передать любую интонацию, любое чувство.