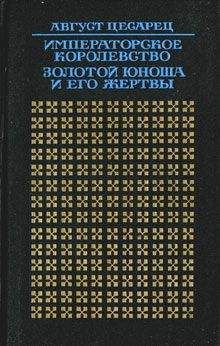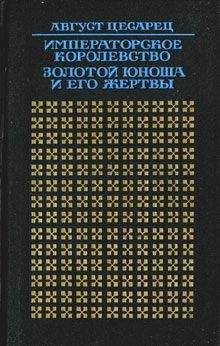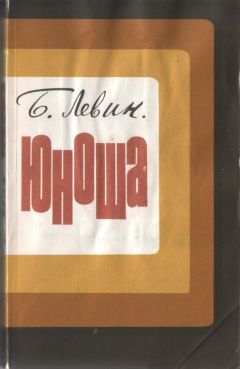Алексей Румянцев - Я видел Сусанина
Акинф ушел, гремя сундуками, священнейший стал на вечернюю молитву. Единение с богом было его отрадой, молился священнейший жарко, истово, «Отврати лицо твое, боже, от грех моих и вся беззакония моя очисти; дух прав обнови во утробе моей, о господи…» Но почему-то на этот раз врывался в молитву то Переяславль окровавленный, то пустые дарохранилища, то воеводский гонец и пляска дождевой капели за окнами, а сердце всполошенно, по-бабьи вопило о неизбывном. «Тайник в сундучишке заложу весь лалами[11], два Ростова на них окупишь», — порхнула греховная мысль.
Владыка смиренно опустился на пол, шепча молитвы.
ЧТО МАРЬЯ СЛЫШАЛА
Зря ловчил божий слуга. Пряча неспокойного гонца на монастырском подворье, он тщился хотя бы на время скрыть от людей то страшное, неотвратимое, что несла с собой грамота из-под Переяславля. А оно пригромыхало, подобно раскату грома, это неотвратимое, — скроешь ли то, чего нельзя скрыть? Дня не прошло, как Ростов словно залихорадило. Чу — кто-то приезжал к владыке о т т у д а, чу — кто-то видел или слышал, что проверяют воины кремль, совсем развалившийся, ставят на въездах рогатки… Не беда ли у ворот, господи упаси? Все ли тихо на московской дороге?
Здесь надо нам вспомнить, что уже все лето сидела шляхта в Тушине, облизываясь на Москву (недаром даже Костя Башкан слышал от мужиков об этом!). Казачество и одурманенные посулами мужики, князья да бояре, что ради своих выгод переметнулись от Шуйского, — вот немалая опора тушинцев. Но и со всей этой опорой не одолели они столицу. Не смогли они одолеть и Троице-Сергиева монастыря, что стоял каменным богатырем на пути к северу. Вот почему незадачливым панам требовалась хотя бы какая-нибудь зацепа, хотя бы просто видимость победы. Вот почему ринулись они к неукрепленным, фактически беззащитным городишкам.
Не скажешь того, что Ростов-де вовсе уж ни к чему и не готовился. Хотя владыка и склонял ростовчан признать Лжедимитрия Второго, ополченцы здесь тушинцам не предались: слишком хорошо знали ростовчане повадки ляхов[12]. Город настороженно выжидал развития событий. Не задержи тогда Филарет позднего воеводского гонца — неплохой монастырский отрядец, вполне к бою готовый, можно бы подкинуть Сеитову в ту же ночь. Но, во-первых, святитель всю эту ночь был занят в покоях шкатулками да сундуками, во-вторых, ему отнюдь не хотелось попасть на острие иглы, портить отношения с тушинским царьком.
И город поставлен был под угрозу.
Под вечер, когда лилово-сизые тучи над озером постепенно рыжели от заката, возвращалась в посад стрелецкая вдова Марья Кика. Шла она от кумы, из ближнего сельца, с Которосли: шерстишки черной сторговала себе на катанцы. Дорога пересекала пестренький осенний лесок, то и дело подвертывались под ноги ядреные, выскакивавшие прямо на колею маслята. Марья собирала грибы в передник и, увлекшись, петляла уже где-то стороной, полянами.
И давнее бабенке припомнилось. Пятнадцати годков не было ей, когда великим страхом потрясло Углич, соседний приволжский городок. Юный сын царя Иоанна зарезан, почти дитя! Сотни безвинных голов слетели тогда с плеч. Все лето шли через Ростов, мимо ее окошек скорбные толпы колодников: в Пелым гнали угличан, в дальнюю сибирскую ссылку. И дядюшку своего в последний раз видела Марьица в той толпе… А четырнадцать лет спустя (мужа еще в ту зиму схоронила, сокола ясного) объявилась нежданная весть на всю Русь: жив-здоровехонек царевич тот!.. Значит, понапрасну лилась кровушка? Куда глядел бог?.. Ну, впустили потом войско младого Димитрия, ну, на престол посадили: сиди, батюшка, услаждайся. Да кабы путного посадили-то! Панов, что борзых, развел возле себя, озорник. Казну по чужбинникам распихивать начал. Веру православную, христианскую глумил, в омут тя башкой, выкреста!.. Потом, слышно, прикончили его на площади у дворца. Да, видно, маленько промахнулись: целехонек, и опять выпялился, глумной. А может, из подставных этот? Бояре, может, подставили? В Тушине, под Москвой сидит ныне: страхолюдный, сказывают, зубами от злости клацает…
— Да что ж это будет, мати пречистая!
Мысли бабы что воробьи на стрехе. Царь — царем, а вот уже вспорхнула думушка беспокойная: не дороговато ли с нее взяла хитрущая кума за шерсть? Эх, разлюбезное бы дело — справить себе, вдовице вовсе еще младой, новенький шубенец (в сборку, помоднее!) к Николе-зимнему. А уж кабы выговорить заодно с шерстишкой еще баранинки на светлопрестольный праздник… да еще к баранинке-то славно бы…
Но что было бы «славно» к баранинке на светлопрестольный, Марья Кика додумать не успела: влево от грибной полянки — там, где ропотал невдалеке тихий Ульянин ключ — услышала она вдруг человеческие голоса. И как наклонилась Марья у пня за очередным масленком, так и не разогнула спины: сквозь узорные ветви отчетливо виднелись кто-то двое по ту сторону ямского пути.
— Прижать хочешь? — обиженно спрашивал один, и Марья тотчас признала голос Тришки Поползня, стрельца-запивохи из воротной стражи. — Торговаться ты ищи-ка других.
— За пятерку ты же дом сладишь, дура-голова, — убеждал незнакомый голос. — Дом и хозяйство — мало тебе?
— Кабы о хозяйстве одном речь… А ну как дело ваше провалится? Куда денусь? Мне тут жить.
— Да пей ты из моей сулеи, бестолочь, крученые мозги, допивай же остатки! Жить ему, жи-ить… А войско ты видел ли? Считал ты, чучело, войско наше? Тебе, что вон этой лесине, объяснять… пей же ты, пе-ей, говорю. Услугу нам сотворишь — вот и живи себе в достатке…
Тут незнакомый голос перешел на басовито-хриплые ноты, и до Марьи уже доносилось то однообразное «бу-бу-бу», сливающееся с ропотом Ульянина ключа, то мелодичное позвякивание стеклянной посудины о камень. Женщины же тех времен были, конечно, столь же падки к житейским новостям, что и в другие любые времена: разбуди любопытство в женщине — она забудет, кажется, обо всем на свете. Тем более, разговор-то, разговор-то, ба-атюшки!.. Подоткнув повыше холщовый передник с грибами, Марья Кика осторожно, почти не дыша, подсунулась ближе, где красовалась кужлявая, с раскидистыми ветвями ель. Повозившись внизу, Марья устроилась удобно, как в гнезде. Теперь даже вблизи, решила она, затруднительно разглядеть ее в зеленой гущине колючника.
Тришка Поползень сидел спиною к дороге, укрытый можжевеловым кустом, из-за которого лишь торчал островерхий рыжий колпак да Тришкины уши, будто нарочно оттопырившиеся в жадном внимании. Незнакомец, тощий и словно весь обглоданный, с белесой щетиной жиденьких усов и палевым острым кадыком, был виден Марье весь. Он терпеливо-старательно убеждал стрельца, то взмахивая рукою, то отгибая палец за пальцем:
— Кремль в Ростове гнилой: пхни — упадет[13]. Это р-раз. Пазов-обвалов мало ли там? И кто разнюхает, ты ли впускал наших людей вовнутрь, сами ли во тьме просочились? Тут, считай, два. Так ли?.. А три — не будет у стен кровавого боя, коль взойдем тамо, где знак подашь. Подумай сам, сколь жизней ты этим спасаешь?.. Да уж если только в рублях торг, то — ляд с тобой! Пятерку прими сейчас от меня, другую додам после, когда кончим дело в Ростове. Согласен ли?
Молчание, вздох. Рыжий колпак над можжевельником колыхнулся: пятерней в затылке Тришка заскреб.
— Язык у тебя с локоть, бес-дуда, — сказал он. — Обоше-ел!.. Давай, что ли, серебро.
Что дальше последовало — Марья никак не могла потом рассказать толково. Ясно ей было одно: измена, враг идет к городу. «Батюшки, ой, неладно!» И тут, встревожившись не на шутку, она позабыла на какое-то время о главном — об осторожности. То ли мошка шальная забилась ей в ноздрю, заставив некстати расчихаться под елкой, то ли высунулась вдовица чуть больше, чем дозволительно было, но за оплошку свою поплатилась она чувствительно. Незнакомец, уже отсчитывавший на колене монеты, вдруг нервно задернул кошель. Не потому ли, что где-то невдалеке послышался скрип телеги? Что лошадь фыркнула и голоса донеслись? Нет, не одно это. Марья Кика уверяла впоследствии всех, что именно через дорогу, именно к ней, под елку, зыркнул глазищами волосатый сатана. Хищный кадык вздернул, привскочил резко, по-волчьи.
— Тш-шш!.. Кто там прячется?
Вскочил и Тришка Поползень. Марья Кика смигнуть не успела, как злодеи очутились у елки:
— Чего надо?
— Кто тебя подослал, баба?
Впрочем, ни мешкать, ни расспрашивать им было некогда: дело шло к расправе.
— З-за… за горло ее, — шипел Поползень, заикаясь от страха. — Е-едут же, слышишь? За… заткни ей глотку!
— Ба-атюшки! Ба-а-а-а…
Марья кусалась, царапалась, а между тем колеса приближающихся подвод выстукивали уже за Ульяниным ключом, совсем рядом. И это спасло женщину. Стрелец с незнакомцем, шепотом чертыхаясь, скрылись живехонько в чапыжах. Марья, не помня себя, роняя перемятые грибы, кинулась навстречу подводам: