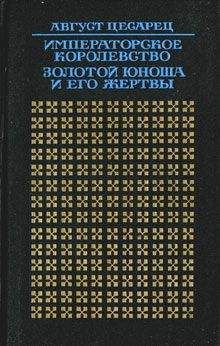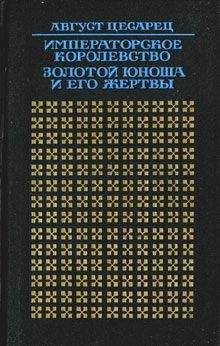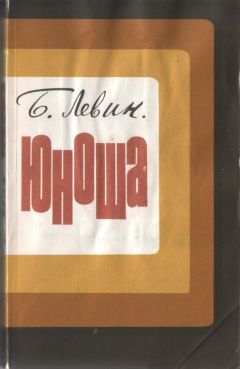Алексей Румянцев - Я видел Сусанина
Но что-то недосказанное читал в скользком старце священнейший. Он, слушая в пол-уха, приучился понимать свое: лукав костромитин! Этого сребреника, этого мздоимца притянули в Ростов не заботы духовные, а лишь яблочки кущи христовой. Кто скажет, какие ветры подуют завтра, и не поскачет ли оный седой козел в Москву, к Ваське Шуйскому?.. Эх, да куда же проще, куда нужнее был бы сейчас тот мирянин, тот пахарь-трудник Иван, — Сусаниным, что ль, старосту с Шачи звать? Проще они, люди вотчины. Цельнее.
А сладостный старец приторно заливался:
— Еще докучаю: послан есьм обозец на Тушино. Доброхотных даяний наших обозец.
— Из урожая?
— Н-н… не совсем, — вздохнул смущенно игумен. — Крещенскую водицу обители нашей… богопомазанному Димитрию дар: волжская, в двух бочках, — мялся он, — Окроплять воинство назначена еси…
«Вот возликуют в Тушине», — усмехнулся мысленно Филарет. Но поднявшееся раздражение привычно сдержал: даже и этот символический дар с Волги значил сейчас многое. Бочки с водою — это начало. Ведь сказал же костромитин, что воевода Мосальский скликал народ на площади, что грамота Димитрия принята городом с ликованием великим, что и храмы все отслужили молебны ему во здравие… Сдвинулось! Правда, насчет ликования игумен-угождатель поперемаслил, да не впервые владыке отличать семена от плевел. Что из того, что два мелких монастыришка подали слово против? Все едино: весть гулкая! Крест целовали, пусть чешет в затылице Шуйский. А что того Димитрия совсем недавно выплюнула и развеяла прахом прозревшая было Москва, что возносится теперь новый Дмитряшка на волне смуты людской (недаром зовут его на посадах «тушинским вором») — то совсем иной разговор. Теперь время — не промахнуться, и костромской этот богомолец ловко дело повел… И да прости же его, укротив гнев, понеже ты пастырь божьего стада — иерарх. «И даруй ми, господи, зрети грехи моя, або не осуждати брата моего…»
Дерзновенный вихрь с силой ударил навстречу, когда священнейший, благословив и спровадив наконец гостя, привычно спустился вниз. Ему по душе были ветер и мутная зга, нравились брызги ярого осеннего ливня: здесь была правда жизни, здесь не было тошнотворной лжи, как там, в лампадной тиши покоев. Вихрь бесновался над площадкой галереи, тяжко гудела медь в наполненных ветром пролетах колокольни. Где-то рядом плескалось озеро Неро, где-то что-то ухало, завывая, стучало, скрипело, и только сторожевые фонари на водяной башне свидетельствовали о нерушимом порядке и гармонии жизни. «Разверзлись хляби небесные», — ликовал Филарет. Воздел руки навстречу ночной стихии, постоял так под брызгами. Освеженный, бодрый, вернулся к себе в покои.
Келейный служка — щекастый инок с белесым пушком вокруг толстых оттопыренных губ — докладывал, склонясь:
— Все бунтует, великий господине. Требует бумагу сеитовский гонец.
— Что дерзкому ответил?
— Ветр велик, сказал, шумит гроза божия. Куда соваться в дорогу такой ночью аспидной? Лихие люди могут, мол, смять. Кто за гонца в ответе будет?
— Кто в ответе… кто будет в ответе, — повторил, как эхо, Филарет. — И он же что?
— Дерзит, великий господине. — Служка неопределенно улыбался чему-то своему — гладкий, сытый, похожий на домашнего обласканного кота. — Воевода Третьяк Сеитов повелел-де как можно спешно ему возвратиться. Грозит ускакать назад своевольством, без владыченского ответа.
— Не уска-ачет. — Досада скользнула по лицу владыки. — Вон грамота лежит на столе. Дай сюда.
Опять прочитал, опять смотрела с листа пронзительно, в глуби сердца тревога. Знал бы сие проныра-игумен! Город Переяславль, всегда сговорчивый Переяславль отрезал тушинцам: н е т! Не били разве челом Димитрию, не призывали сами его переяславцы? А ныне — скрестились мечи на смертном рубеже, кровь льется у Плещеева озера, на подступах к земляному валу. Пылают приозерные слободы — горе, о горе впавшим в гордыню! Переяславль падет, то ясно, как день: сил тамо не наискать. Но пишет Сеитов, что если Ростов, нимало не мешкая, не пришлет оружный монастырский отряд Ивана Григорьева, если оставят его, воеводову рать, без поддержки близ Плещеева озера, то завтра-послезавтра не миновать сечи в Ростове, у озера Неро. А понеже ростовские воины купно с Сеитовым дадут ляхам отпор у стен Переяславля…
— Грамоту за грамотой шлет! — гневно швырнул бумагу Филарет. — Алчны до крови аки волци: буйство и пря вместо кротости. — Поднялся рывком с кресла, резко шагнул — соскочила с ноги бархатная туфля. — Третьяка Сеитова гонец, коим письмо доставлено, — гость мой. Слышал? Накормить лучше и дать вина. Акинфию скажешь — с подворья не выпускать. Голову сыму, коль уйдет гонец! — Повеления звучали жестко, отрывисто; сейчас владыка был таким, каков он есть. Хватит, устал притворяться. — Кто тамо? В передней кто шеборшит?
— Да он и пришел. Акинфий.
— Звать сюда. Сам будешь в сенцах.
Вот где объявился он, домнинский баринок Полтора Пуза! После вечера в ельнике, где мы с приказчиком столь памятно расстались, произошли в нем заметные перемены. Теперь и пузцо стало пожиже, и не баринок с виду Акинфий, и угодливость-гибкость в нем появилась, и даже вместо прежней черно-смолевой бороды оставлены на бесстыжем лице лишь усики — бойкие, закрученные игриво вверх.
Акинфий внес на вытянутых руках изящный, с тонким искусством отделанный сундучок-подголовник, сверкающий перламутровой вязью. Пропел тоненько, по монастырскому обычаю:
— Господи Исусе Христе, сыне божий…
— Аминь, — оборвал владыка. — Ставь сюда.
Акинфий утвердил на бархатный синий стулец дорогое изделие. Придвинул к креслу священнейшего:
— Все тут, как возжелали днесь. — Он отпахнул угодливо крышку, певуче и нежно звякнувшую, нажал что-то перстом изнутри и — дно вдруг тихо раздвинулось. Ниже, вершка два отступя вглубь, желтело второе дно роскошной шелковой отделки: дно уже настоящее. — Тайничо-ок! — восторженно развел пальцы Акинфий, весь так и сияя. — Эту вот планицу мы сдвинем… Тут пуговка, тут заделка: все укрыто и отменно хитро, хе-хе-хе…
Но владыка не спешил с похвалами.
— Пошто приволок-то? — вздохнул он. — Сей царственный укладец снес бы царю земному. Мне же худье дай — для хлама одежного, сиречь рухлядишки… Блеском совратили тебя, прости господи.
Акинфий моргал ошалело, сглотнув улыбочку.
— А — тайничок? — начал осторожно оправдываться, не видя вины. — Второе же донце… Помню, приказано было…
— Что приказано? — вскинул владыка бровь. — Нагнись, раб, под лавку… Да дальше, в углу!
С кряхтением, с возней было извлечено на свет жалкое подобие сундука: небольшого с виду, но явно укладистого, лазурью когда-то крашенного. Бока и углы сбиты. Крышка вихлявая, на жестяных ржавых петлях.
— Вот что было приказано! Одежду сверху вложить смирную, неприманчивую, а внизу — «начинка». Пошто плохо слушал? Сундук нужен — старье, хлам, лишь дно тайным сделать, хитроискусно. Мне еще всех учить?
— Понял. Утром к деревянщику сразу…
— Раньше! Наутре сюда принесть.
Странно же звучал этот ночной разговор в митрополичьих покоях! Высокопреосвященнейший в дорогой рясе, глава церквей Северного Поволжья, снисходил до шепота с низменным рабом, поручал что-то ему секретное, заказывал, объяснял… Грозное время как бы стирало грань между господином и слугою, оба сей миг заняты были одной мыслью о неизвестном.
Акинфий докладывал, понизив голос, что выездные митрополичьи кони стоят наготове уже третьи сутки, что и возок в полной исправности… Как быть, чего ожидать?
— Не завтра ли? — закидывал сеть на всякий случай.
— Кабы знать, о раб, кабы знать нам с тобой промысел божий! Смута на Руси да сундучишко с двойным дном — вот что на сей день ведомо. А за выездными следи сам, это — добро… В святохранилищах кто лишний с тобой не был ли?
— Отец казначей да ктитор догляд вели, я переносил добро вниз. Укрыли втайне ценности все, святыни. Местам хранения дал роспись отец казначей.
— То знаю. Все убрано?
— Нет, мелочь оставили. Для виду.
— Тако, все тако… Да спасет бог от поругания святой дом, испытание великое ниспослав ему… А ты, раб верный, послужи опять ныне, как нам служил в Костроме… Затеряться в посаде тебе лучше бы.
— Стать в слободе? В приозерье?
Владыка молча кивнул. Сдвинув на столе серебряный поставец, вынул из открывшегося желобочка пять-шесть матово-сизых жемчужин.
— Для начала тебе: сие крепче денег. — И, наклонившись, добавил совсем уж секретно: — Пан Яздовский тут объявится вскоре, будет с ним инок латинский, брат Винцент. Жмись тамо, приглядывайся… Да пребудет с тобою воля всевышнего.
Акинф ушел, гремя сундуками, священнейший стал на вечернюю молитву. Единение с богом было его отрадой, молился священнейший жарко, истово, «Отврати лицо твое, боже, от грех моих и вся беззакония моя очисти; дух прав обнови во утробе моей, о господи…» Но почему-то на этот раз врывался в молитву то Переяславль окровавленный, то пустые дарохранилища, то воеводский гонец и пляска дождевой капели за окнами, а сердце всполошенно, по-бабьи вопило о неизбывном. «Тайник в сундучишке заложу весь лалами[11], два Ростова на них окупишь», — порхнула греховная мысль.