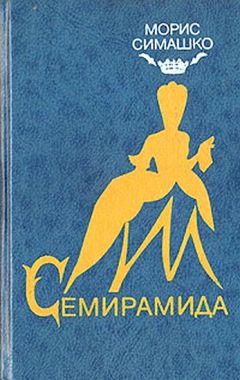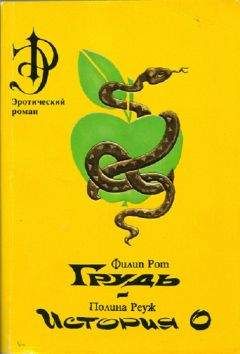Морис Симашко - Семирамида
Третья глава
IБольшая рука поднялась, осеняя ее. Когда крест остановился на уровне глаз, она твердо и ясно заговорила:
— …ВЕРУЮ ВО ЕДИНАГО БОГА ОТЦА, ВСЕДЕРЖИТЕЛЯ, ТВОРЦА НЕБУ И ЗЕМЛИ, ВИДИМЫМ ЖЕ ВСЕМ И НЕВИДИМЫМ. И ВО ЕДИНАГО ГОСПОДА ИИСУСА ХРИСТА, СЫНА БОЖИЯ, ЕДИНОРОДНАГО, ИЖЕ ОТ ОТЦА РОЖДЕННАГО ПРЕЖДЕ ВСЕХ ВЕК: СВЕТА ОТ СВЕТА, БОГА ИСТИННА ОТ БОГА ИСТИННА, РОЖДЕННА, НЕСОТВОРЕННА, ЕДИНОСУЩНА…
Свет дневной, вливаясь в широкие парадные ворота и падая из полукруглых окон под куполом храма, смешивался с горячим жаром тысяч свечей по стенам, притворам, углам и закоулкам среди колонн. Тысячекратно отражаясь в золотистых ризах, окладах, иконах, потолке, свет густел, делался осязаемым, будто тек из невидимых рук, и тяжелое золотое сияние наполняло воздух. Все исполнялось, как было предопределено некоей назначенной ей звездой…
Десятикратно ускоренное движение продолжалось с неослабеваемой ровностью. Все, что мешало, отлетало в сторону, как дом у дороги, разваленный санями. С морозной свежестью неведомых пальмовых листьев на стеклах возник широкоплечий, с простоватым лицом человек. Ряса его была без украшений и короче, чем у других здешних богослужителей. Она приметила еще скрашенную ваксой потертость сапог. А человек обыкновенно поклонился матери, с ласковым интересом посмотрел на нее.
— Я есть архимандрит Ипатьевской обители Симон Тодорский, — сказал он по-немецки и, метнув взгляд в сторону взявшей высокомерный вид матери, пояснил: — Прислан к вашей светлости императрицею для ознакомления вас и дочери вашей с русской христианской обрядностью.
Когда осталась она одна с законоучителем, тот присел на табурет и спросил, все ли она исполняла из христианской службы в доме родителей. Она сдержанно ответила, что исполняла. Он вдруг улыбнулся ей вовсе по-домашнему и сказал, что очень хорошо знал пастора Моклера, приходившего к ее отцу. При этом коротко рассказал, что до принятия сана четыре года упражнялся в богословии при университете Галле, так что многих евангелических учителей закона знает. А пастор Моклер — высокой, искренней души человек. Он твердо опустил ладонью на стол большую руку:
— То все в повадках да обычаях разница, а бога люди в душе имеют одного и того же!
В тот же день пришел Ададуров, склонился нижайше, спросил, с какого языка легче ей будет узнавать язык русский. Она сказала, что с французского, и тот с готовностью покивал головой. Мягкие пухлые щеки его покрывались краской, как у девицы Шенк. Оба они — отец Симон Тодорский и Ададуров вместе с академиком Штеллином — были учителями и для эйтинского мальчика — великого князя и ее будущего супруга. «Кильский ребенок» — так называли его здесь. От кого это услыхала, она и сама не смогла бы сказать. Ей явственно было слышно все даже в дальнем шепоте…
Отец Симон Тодорский ходил широкими шагами из угла в угол, рассуждая как бы сам с собой:
— Что есть вера? Степень совершенства человека. Пока груб он и примитивен, то верит без смысла во всякого идола или ловкого обманщика, от которого ожидает помощи в охоте или беде. Других и нет у него потребностей. А когда душой возвысился человек, то является у него совесть, сострадание к ближнему и прочие чувства, что уже прямо от бога. Тут и возникает вера. Но и слаб человек: даже возвысившись, не может перешагнуть через себя, свою греховную сущность!
Забывшись, он клал ей руку на голову, как маленькой девочке, и она вдруг замирала. Неизъяснимое, сладкое чувство малости, своей незащищенности в мире приходило к ней. Там, где росла она, никогда не клали руку на голову, даже когда было ей три года.
Ни разу не сказано было ей о перемене веры. Она все сама знала и по сто раз в день повторяла русские слова, что звучно наговаривал ей Ададуров. Писала она их сразу русскими буквами, а не произносительными французскими. Ночью вставала, приближала тетрадь к ночнику и твердила их, прислушиваясь к своему голосу: «Петр-ович… светелка… печаль…»
Перед сном она подолгу думала о каждом прошедшем дне. Императрица сразу же явила пылкость, но за чувствами было нечто темное, неугадываемое. В глубине наполненных слезами глаз виделась вдруг угроза. В нестерпимом блеске бриллиантов являлась она им, пахло царскими духами, и больше никто здесь не смел пользоваться ими. Красавец в черных кудрях нес алую подушку еще с двумя звездами. Императрица сама прикрепила их к ее платью и платью матери. А потом за случайно открывшейся дверью она видела императрицу, с суетным женским любопытством наблюдающую за ней и великим князем: как обходятся между собой…
Эйтинский мальчик, ее будущий супруг, в радостном возбуждении хватал ее за руки, слова у него обгоняли друг друга:
— Это великолепно, что мы с вами брат и сестра. Мне будет теперь кому открываться душой… Знаете, я влюблен. В ту вон маленькую мадемуазель Лопухину, что стоит у окна. Хотел жениться на ней, да тетка бы не позволила, так что женюсь на вас. А правда, она красивая? Вам нравится?
Она посмотрела на толстенькую, с пышно зачесанными волосами девицу, поощрительно улыбнулась ему. А он уже самозабвенно говорил, что заказал у некоего мастера особых железных солдат, которые будут в обычный человеческий рост, и что есть у него собака, которая больше лошади. Он прибегал всякий раз, схватывая ее влажными руками, и она приспособила его помогать в заучивании русских слов. Ему это быстро надоедало, и он убегал куда-нибудь опять. Ее все удивляло, как он сделался мал ростом. Тогда в Эйтине он был много длиннее ее…
Выл ветер во дворе, наметая горы снега под окна. К утру печи во дворце остывали. Стоя у ночника с тетрадью русских слов в руке, она кутала ноги здешним прошитым нитками одеялом и никак не могла согреться. Утром, когда шла к завтраку, упала…
Острая боль была все в том же боку. Она слушала, как от собственной дрожи позванивают золоченые шары на спинке кровати, и боялась, что снова опускается у нее плечо. Все ей казалось, что находилась она где-то отдельно от своего тела, но притом все слышала.
— В этой стране умер мой несчастный брат, и я не позволю пускать ей кровь!
Это говорила мать, а доктор-португалец, путая французские слова, разуверял ее:
— О, нет, нет, мадам. Там плохая, дурная кровь. Это, скорее всего, не оспа…
Потом спрашивали, не пригласить ли патера из здешнего немецкого городка. Она лежала горячая, безразличная ко всему. Люди стояли у кровати и еще дальше, у двери. И тогда, собрав силы, она сказала:
— Позовите отца Симона Тодорского…
Люди задвигались, зашептались, передавая дальше, в коридор, ее слова. «Святой дух снизошел!» — громко сказал кто-то. Старик в шитом мундире утирал слезы. Знакомая большая рука легла ей на голову, и она заплакала. Мать так и не касалась ее за время болезни…
Когда лежала, отделившись от тела, она вдруг услышала:
— Принцесса Дармштадтская!..
Откуда явилось ей пронзительное знание того, что выражали эти слова? Она читала их в каждом взгляде, угадывала в шепоте. Другая ждала за пурпурной завесой. Звезда ее падала во тьму, и лишь тусклое свечение обозначало ее след в этом мире…
— Голубушка…
Она не видела никого, только слышала жаркий шепот. Горячие слезы падали ей на лицо. Она удивилась: ведь императрица далеко отсюда, в Троицком.
— Возможна оспа, ваше величество! — внятно произнес чей-то голос.
Императрица склонилась к ней, теплые губы касались ее сухих губ, пылающих щек, лба:
— Деточка!..
Она все видела. Нос и глаза у ея величества покраснели от слез. Мать стояла в коридоре за стеклянной дверью и смотрела оттуда, вытянув шею.
— Буду молиться за тебя! — твердо сказала ей императрица, и она впервые поняла все сказанное по-русски.
Ей пускали кровь, и становилось легче. Она лежала не двигаясь, и все думали, что она спит. Графиня Румянцева, приставленная к ней, тихим голосом говорила кому-то:
— Бедное дитя!.. Вы заметили, что мать боялась заразиться от умирающей дочери? Зато нашла время отстаивать пользу своего прусского амфитриона…
Лежа так, с закрытыми глазами, она многое узнала в эти дни. Принцессу Дармштадтскую готовили в жены наследнику на случай ее смерти. И делали это маркиз Шетарди и посол Мардефельд, которые представлялись им в Петербурге. Толстый швед Брюммер — воспитатель и обергофмаршал великого князя действовал согласно с ними. А великий король Фридрих их одобрил. Со своей стороны вице-канцлер Бестужев-Рюмин упрямо стоял на саксонской партии. Только императрица хотела ее выздоровления…
— …ОТЦУ, ИМ ЖЕ ВСЯ БЫША. НАС РАДИ ЧЕЛОВЕК, И НАШЕГО РАДИ СПАСЕНИЯ СШЕДШЕГО С НЕБЕС И ВОПЛОТИВШЕГОСЯ ОТ ДУХА СВЕТА И МАРИИ ДЕВЫ И ВОЧЕЛОВЕЧАШАСЯ. РАСПЯТОГО ЖЕ ЗА НЫ ПРИ ПОНТИЙСТЕМ ПИЛАТЕ, И СТРАДАВШИ И ПОГРЕБЕННА. И ВОСКРЕСШАГО В ТРЕТИЙ ДЕНЬ ПО ПИСАНИЕМ. И ВОЗШЕДШАГО НА НЕБЕСА И СЕДЯЩА ОДЕСНУЮ ОТЦА. И ПАКИ ГРЯДУЩАГО СО СЛАВОЮ СУДИТИ ЖИВЫМ И МЕРТВЫМ. ЕГО ЖЕ ЦАРСТВИЮ НЕ БУДЕТ КОНЦА…