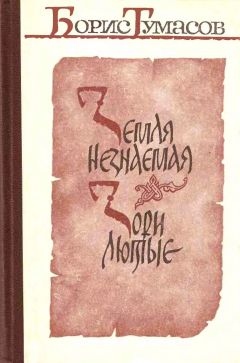Борис Тумасов - Кровью омытые. Борис и Глеб
Захаживали к перевозчику Зосим и Лешко. Кто они и чем занимались, колченогий не знал, одно известно: Лешко и Зосим из земли ляхов в Киев явились. Собирались на перевозе, варили похлебку из рыбы, приносили с собой глиняный жбанчик с хмельным пивом, и тогда жизнь у них становилась веселой.
* * *Боярина Блуда великий князь наделил землей по левому берегу Днепра. Места богатые, редкий год неурожайный. Одно и неудобство, переправа время отнимает, а Блуд свои деревни навещал не только при сборе дани, а и в конце лета, смотрел, какой урожай, чтоб загодя знать, какую дань будет иметь.
Смерды от боярина ничего не таили, как-то попытались, да Блуд их на снег и мороз на правеж поставил, чтоб впредь неповадно было.
В то лето Блуд неделю провел на левом берегу и домой возвращался довольный, урожай обещал быть хорошим. По извилистой поросшей дороге княжеский возок подкатил к переправе. Паром стоял на правом берегу. Из-под I ладони Блуд глянул туда, где изба перевозчика. Там горел костерок, и колченогий с приятелями варили еду. Боярин озлился, вишь, не признает хозяина. Поманил челядинца:
— Покличь холопа!
На другом берегу засуетились, и вот уже паром поплыл к левому берегу. Двигался медленно, его сносило по течению, но колченогий направлял его к тому месту, где стоял Блуд с челядью.
Едва паром ткнулся в песок, как челядь завела коней, вкатила возок. Блуд поманил колченогого, ударил плетью:
— Вдругорядь поспешать будешь, холоп. Что за воры с тобой?
— Зосим да Лешко, боярин.
— Гляди мне.
На правом берегу, пока челядь скатывала возок, всмотрелся в приятелей колченогого, проворчал:
— Эки разбойные рыла, воры, истые воры…
* * *Сына Блуд вспоминал редко, не малое дитя, знал, куда отправлялся. К зиме валка вернется и Георгий объявится. Боярина иное волнует, сколько соли привезет Аверкий и в сохранности ли его волы. Эвон, лета три назад княжья валка ходила несколькими десятками мажар, столько соли добыли, что и поныне есть. Великий князь той артели сторожу на переправу высылал.
В тот раз княжья валка потеряла человека три да волов несколько.
Размышляв о том, Блуд ругал себя, что не послал с Аверкием мажары три. Теперь жди, когда еще соберется новая валка. Неожиданно к нему мысль явилась — послать за солью валку, своих холопов, а поведет их Георгий, путь-то ему теперь ведом.
Подсчитал мысленно боярин, мажар с десяток пошлет в Таврию. Вот только воротится Аверкий, так Блуд и начнет готовить свою артель. Разве еще тиуна великого князя подговорить?
И у боярина Блуда на душе становится радостно, он уже загодя решает, сколько соли продаст и сколько себе на будущее оставит.
* * *В лесу на охоте набрел Святополк на борть колод в десять. Бортник, еще не старый мужик, признав туровского князя, зазвал, усадил за одноногий, врытый в землю столик, а сам вынес корчагу с медом, пахнувшим липой, и ломоть зачерствелого ржаного хлеба.
— Прости, княже, к меду бы посвежей хлебушек да помягче, но чем богаты, тем и рады.
— И за такой благодарствую, проголодался. Борть-то твоя?
— Княже, — удивился бортник, — коли были бы мои колоды, ужли ходил бы я в рваных портах и латаной рубахе?
— Так борти-то чьи?
— Как не сказать, твои, княже. Твой тиун борти стороной не обходит, не то что с каждой колоды, с каждой пчелы свое возьмет.
— Тиуна не вини, бортник, он службу правит. Коли тя пожалеет, другого смерда, чем княжью дружину кормить?
— То так, княже, да уж больно скуден хлеб у смерда. Святополк поднялся, сказал резко:
— Сладок мед твой, бортник, да слова твои горькие.
* * *В огромном скрипучем рыдване из Кракова в Туров возвращалась Марыся. Плакал старый экипаж, подаренный королем дочери, без слез плакала душа княгини. Она не хотела возвращаться в Туров. В бревенчатых княжеских палатах Марысе невмоготу. Она с нетерпением ждала смерти великого князя Владимира, и тогда киевский стол займет Святополк. Марыся не хотела иметь Святополка мужем и согласилась только по требованию отца, который сказал:
— Ты недолго будешь туровской княгиней, после Владимира Святополк станет великим князем по старшинству…
Вместе с Марысей в Туров едет и епископ Рейнберн, папский нунций. Он сидел в экипаже напротив княгини и надоедливо бубнил:
— Дочь моя, хоть русы и приняли христианство, они продолжают оставаться язычниками. И так будет, пока они не перейдут к нашей вере. Князь Святополк должен стать им примером.
В коий раз слышала это Марыся, потому слова епископа пропускала мимо ушей.
Но нунцию известно, капля камень долбит, и продолжает свое, говорит, что Марыся должна помнить, она католичка, и к тому склонять своего мужа. Когда же он сядет великим князем киевским, то Церковь на Руси не патриарху Константинопольскому подчиняться станет, а Папе Римскому.
Епископ напоминает, как король Болеслав просил руки дочери великого князя киевского, но Марыся это уже слышала и обрывает нунция:
— Але Болеслав не разумел, молодой жене не только королевой зваться, а и ложе делить с ним.
— Вы, кохана Марыся, дочь моя, забываете, речь идет о короле и ему в жены не шляхтянка требуется, а из рода царского.
— Але так, то и пусть ищет.
Рейнберн приоткрыл штору, выглянул в оконце:
— Мы едем по земле Волынской, дочь моя.
— В Волыни устроим отдых, — сказала Марыся.
— Моя кохана, духовная дочь знает, этот проклятый экипаж отбил у меня все внутренности.
* * *— Княгиня, Туров! — радостно вскричал передний ездовой, раньше всех заметивший выдавшуюся из-за леса угловатую стрельчатую башню.
Верхоконные дружинники, ехавшие за возком по двое, подтянулись. Ездовые защелкали бичами, лошади перешли на рысь, и рыдван, грозя рассыпаться, покатился, набирая скорость.
Дозорные тоже увидели конный поезд. В городе ударили в кожаные била. Глухие звуки донеслись до ближних сел, не вызывая у смердов опасности — гудело ровно, торжественно. Распахнулись городские дубовые ворота, и навстречу княгине вынесся Святополк.
— Истосковался я, тебя дожидаючись, — проговорил Святополк, целуя жене руку.
Княгиня Марыся улыбнулась:
— Не держи на дороге.
Князь нахмурился, отпустил ее руку, крикнул ездовым:
— Гони! — и сам, вскочив в седло, поскакал рядом с возком.
В оконце Марыся искоса наблюдала за Святополком.
Брови насуплены, редкая борода клином, истинный старик, а ведь сороковое лето еще не минуло.
Отвернулась, задернула шторку. Рейнберн заметил, как презрительно искривились губы княгини.
— Смирись, дочь моя, — сказал епископ.
Марыся вздрогнула, ответила раздраженно:
— Не всегда сердце подвластно разуму. Любовь и плоть < суть чувства человеческие.
Рейнберн подался вперед, взметнулись седые брови.
— Учись владеть чувством, дочь моя.
— То удел убеленного старца либо отрешившегося от земных сует чернеца, — возразила Марыся.
Папский нунций резко поднял руку. Узкий рукав сутаны перехватил запястье.
— Не забывай, дочь моя, в тебе королевская кровь. Король Болеслав — твой отец, а Польша — твоя родина! Ты должна печься о расширении ее владений и могущества! Лаской, исподволь наставляй к тому и мужа своего.
Копыта коней застучали по бревенчатому настилу под воротней аркой, рыдван затрясло, колеса затарахтели, заглушая слова епископа.
Вскоре они подъехали к княжескому дому, и Марыся покинула рыдван.
* * *В Турове пресвитеру Иллариону довелось побывать года три назад на освящении церкви. Городок, какие тогда На Руси возводили, мало чем отличался от других: бревенчатые стены, стрельницы угловые, ворота. В детинце княжьи палаты, дома боярские и церковь. А вокруг детинца избы ремесленного люда, поселения огородников. Княжьи и боярские дома крыты тесом, а у остального люда соломой, потемневшей от времени.
По воскресным дням собиралось торжище, съезжались смерды, ремесленный люд продавал свои товары, крестьяне привозили зерно и крупу, холстину и мясо, птицу и всякую живность.
Бедный торг, не чета киевскому и новгородскому, где и людно, и товара в обилии не только своего, местными умельцами произведенного, но и привезенного иноземными гостями.
А в обычные дни туровцы промышляли кто чем: одни сколачивались в артели плотницкие, другие ремеслами; скорняки выделывали кожи, чоботари шили сапоги; у городских ворот, по ту сторону — кузницы, крытые дерном. Волчьими глазами горели огни в горнах, дышали мехи, ударяли молоты, звенел металл. Жили в Турове гончары, торговали пироженицы, сбитенщики, но больше всех селились в предместье огородники.
Церковь туровская маленькая, да и та почти без прихожан. Даже по праздникам безлюдна.
— Креста на вас нет, — жаловался Илларион, — аль не православные? Не Перуну ли поклоняетесь?