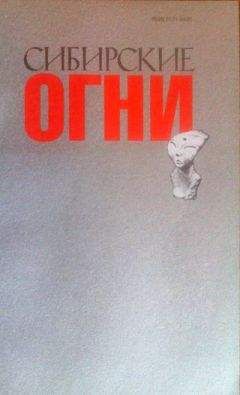Сергей Бородин - Баязет
Впустив другого книжника, Ибн Халдун рассеянно рассматривал вынутые из узелка, написанные на жёлтой вощёной бумаге три книги в пергаментных переплётах.
Владелец клялся, что достались они ему от дедов или прадедов и что только тут толкователи священного Корана достигли логической ясности доказательств.
— Зачем же вы пожелали расстаться с ними?
— Но на город нашествуют татары, они не оставят здесь камня на камне, а книгам никто из них цены не знает.
— Но, как и вы, я столь же подвержен превратностям нашествия и осады. Ежели всемилостивому аллаху будет угодно ввергнуть Дамаск в осаду.
— Вы намерены выстоять осаду со всеми нами?
— А иначе зачем бы мы прибыли сюда, навстречу врагу?
— Тогда другое дело! — облегчённо воскликнул посетитель, торопливо укладывая книги обратно в узелок. — Наследие отцов я спешил отдать на безопасное хранение. Но если вы с нами, нам ничто не грозит!
— Вы намеревались их отдать безвозмездно?
— Конечно! Лишь бы сохранить.
— Тогда оставьте их нам.
— Зачем, если мы равно в безопасности?
— И всё же здесь они будут целее! — ответил Ибн Халдун, решительно откладывая узелок в ту полутьму, на углу скамьи, где на коврике уже тихо лежала Дионисиева «Летопись».
Историк беседовал, но мыслями не отвлекался от «Летописи». «Если Дионисию не возбранялось увековечить Евсевия, переписав его сочинение в свою «Летопись», почему бы и нам не увековечить «Летопись» Дионисия, переписав её в своё сочинение?..»
2
Перед рассветом, когда было непроглядно темно, Ибн Халдун, ещё сонный, с постели привычно перебрался в седло и, сопровождаемый конной охраной, поехал со двора через безгласный, безмолвный город в сторону мечети Омейядов.
Уже они в тишине, дружно топоча копытами, подъехали к безлюдному, странно пустынному базару, когда внезапно откуда-то сверху, словно из разверзшихся небес, прогремел трубный голос азана и волна за волной призывы к молитве огласили всю тишину, всё безмолвие ночи.
Он сошёл с седла, отдал лошадь воинам и пешком пошёл вслед за молчаливыми людьми, совсюду спешившими мимо него к мечети.
В темноте он плохо различал улицу или площадь, где шёл. Но вскоре понял, где идёт, узнав ряд тех колонн, на которые смотрел днём, въезжая в город.
Все шли молча. И он шёл молча. И что-то было таинственное и величественное в этой безмолвной дороге к общению с богом, словно это тот самый путь, коим суждено каждому пройти один раз, свершив земные дела и поспешая к престолу всевышнего.
Со всеми вошёл он через просторные ворота под гулкие своды галереи на плиты обширного двора, к мраморному водоёму, накрытому широким куполом, где попечением благочестивых благотворителей поставлено много медных кувшинов, полных чистой воды, чтобы каждый мог без помех здесь совершить омовение.
Вступив внутрь мечети на бесчисленные ковры, её устилающие, меж древних столбов в полумгле, где около фонарей поблескивала позолота на резных мраморах, он встал в длинном ряду молящихся и, видя такие же ряды впереди, ощутил непривычную робость, боясь глубоко вздохнуть среди благоговейного смирения, непритворной веры, охватившей множество людей, молчаливо ожидающих первый возглас молитвы.
В сотнях мечетей случалось ему молиться, стоять и в первых рядах молящихся, возле имама, и в присутствии халифа, и при многих султанах, когда стояли, красуясь друг перед другом своим местом в храме, своей одеждой, своим благочестием. Это бывало, как смотрины, когда люди распознавали по месту в мечети место каждого на земле. Там привычно выполняли каждую часть молитвы — вставали, опускались на колени, совершали земные поклоны — точно и без раздумий.
Здесь Ибн Халдун уловил иные чувства людей. Сюда пришли не напоказ, не по долгу, а по влечению веры. И впервые он подумал, что, может быть, это и есть то самое место, где аллах слышит смертных.
И вдруг оно случилось, то краткое внезапное мгновение, когда он почувствовал: бог, как молния, возник перед самым его лицом и внимал.
Присутствие бога было так явственно, хотя и незримо, что можно было своей молитвой коснуться слуха аллаха.
Историк не оробел, но смутился и промолчал: ему нечего было просить, у него всё было!
Потом, всю остальную жизнь, Ибн Халдун терзался, что упустил нечто невозвратимое, и, как огонёк светильника на ветру, заслонял от всех и нёс в себе во всю остальную жизнь это озарение, возникшее в полутьме предрассветной мечети.
Не молясь и ни о чём не думая, Ибн Халдун в длинном ряду молящихся рассеянно повторял всё, что делали другие, впервые с удивлением осознавая, что ему нечего просить у бога, ибо бог уже дал ему всё, к чему бы ни тянулись руки.
Наконец, в том же удивлении он вышел к порогу, и пока, как всегда, все толпились, обуваясь или разыскивая свои туфли, он безучастно ждал.
Никто не оглядывался на него, каждый высматривая свою обужу.
Ибн Халдуна отталкивали, отстраняли, пока бульшая часть людей, обувшись, ушла и он наконец среди всякой серой стоптанной обуви увидел свои каирские туфли из мягкой жёлтой кожи, ярко-красные изнутри, сшитые известным мастером в подарок с просьбой, чтобы почтенный учёный помог сыну сапожника поступить в султанскую школу учеником каллиграфа.
Он совсем было забыл, зачем сюда пришёл и куда идти отсюда, но книжник, с которым он условился о встрече, сам к нему подошёл и, растолкав толпу, достал учёному его туфли.
Они отошли во двор и там постояли, разглядывая ещё хмурые в предутренней мгле стены, когда Ибн Халдун заметил, что к тому же порогу, так же снимая обувь у входа, столь же смиренно, кротко и как-то торжественно переступая порог, пришло новое множество людей, одетых иначе и поэтому иных обликом.
— Христиане! — сказал книжник. — Теперь здесь они будут молиться.
— В мечети?
— Они отстоят утреню у гроба великого их святого — Иоанна Крестителя. Они зовут этого святого предтечей, ибо он шёл на один шаг раньше, чем пророк Иса, которого они тоже зовут по-своему — Иисусом.
— Иса — это и наш пророк! Я хочу посмотреть. Нам можно туда вернуться?
— Нам бы пора принять благословение божие — вкусить хоть ломтик хлеба. Кто после утренней молитвы не вкусит благословенный хлеб, тому во весь день любая еда комом в горле встанет.
— Всё же вернёмся туда с ними.
И, не слушая книжника, Ибн Халдун привычно сбросил туфли на прежнем месте и вошёл внутрь храма.
Уже не было там той благочестивой полутьмы.
В длинных чёрных рясах, а другие в белых, монахи, разнося язычки огня на тонких, как стебельки, свечках, зажигали лампады, свисавшие над позлащённой ракой Крестителя среди тонких витых столбиков.
Теперь, когда фитиль за фитилём загорался от быстрых язычков огня, становились видны свисавшие на тонких цепях бесчисленные лампады. Большие, маленькие, каждая из них вышла от искусного мастера — одни вставленные в золото, выкованное, как тончайшее кружево, другие тяжёлые, словно это подвесили опрокинутый шлем, и огонь пылал в них гневными языками, третьи, круглые, как кубки, украшенные какими-то изображениями, может быть, древними, языческими и совсем неуместными здесь. Это были дары верующих, приношения молящихся, драгоценные и порой содержавшие смысл, понятный только жертвователю.
Теперь, когда одна за другой вспыхивали они над этим священным местом, казалось, разгорается золотое сияние, подобное неугасимому нимбу.
Может быть, рассвет уже заглядывал в узкие окна и озлащал стены, а на стенах — непостижимый, ещё неведомый Ибн Халдуну мир, воплощённый в мозаиках.
От рассвета ли, от света ли лампад вдруг так расширилось всё это здание и оказалось как бы открытой пространной площадью, откуда во все стороны были видны сады, строения, и дворцы в садах, и дороги между деревьями, и плоды, и птицы, и небо, и облака. Всё нежно-голубое и слегка позлащённое, как само это утро в этом городе, откуда каждый человек виден богу.
Всего только мозаика на стенах, только мелкие камушки, вкрапленные в тяжёлые камни стен, но это был необъятный мир, наполненный воздухом, ветрами, всей той высотой, какая может охватить и вместить всю вселенную, со всем человечеством, со всеми птицами, со всеми плодами, со всем тем, что было нашим миром, нашей жизнью, ибо всё, чем были мы сами и чем мы владели, здесь имело объём — ведь только небо не имеет объёма, и это передал мастер, крошечные камушки смальты втискивая ряд за рядом в вязкую известь на стене.
Так свет лампад, пылавших над ракой Иоанна Крестителя, вырвал из тьмы простор, охвативший и властно вознёсший Ибн Халдуна.