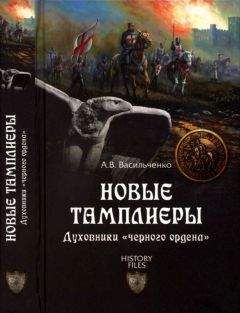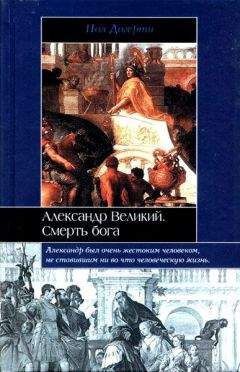Марк Алданов - Истоки
— …Да, да, тысячу раз прав Некрасов: «бывали хуже времена, но не было подлей», — сказала Лиза, оглядываясь на Машу, которая сидела на стуле у стены, безжизненно опустив руки. Она все время молчала.
— Некрасов только переделал это в стихи, мысль принадлежит Хвощинской: «бывали времена хуже, но подлее не было», — улыбаясь, поправил ее Гриневицкий. Лиза на него посмотрела. «Пани Хвощинской», — мысленно сказала она за него.
— Так прочтите же эту передовую статью, — сказала она и уселась в кресле удобнее. «Читает с подъемом», — думала Елизавета Павловна, рассеянно его слушая. «Были красные дни и на русской земле! Было время, когда на привольных полях и в лесах дремучих, на реках и морях был хозяин один — вольный русский народ. Ни царей с их чиновниками, ни помещиков, ни лживых попов, никого он не знал. Управлял сам собой. Сам давал законы. Сам страну защищал, не нуждаясь в солдатах», — читал Гриневицкий. «Когда же это были такие красные дни? — думала Лиза. — И совсем я не хотела бы тогда жить, в лесах дремучих… Они находят, что теперь хуже…» — «…Всяк остерегается другого, какой-то темный дух, дух злобы и корысти всеми обуял. Брат брата предает; мать дочерью торгует; отец не рад семье. Свет Божий опостылел…» — «Тут они все-таки хватили. Неужто это Желябов писал?.. Но где же о царе? Да, вот…» — «…Что же сам запевала? Какую роль царь ведет? О, это злодей обстоятельный! Сейчас видать — всему делу голова… Не любит царь серой публики и по улице-то не едет, а мчится, как оглашенный: видно, на воре шапка горит…» — «Что ж, это понравится, может быть, так и надо писать…» — «…И кипит потеха молодецкая, и глядючи на нее щелкает царь зубами; прячется губитель за спины черкесские от своего народа русского. Да не уйдет…»
— Ну, что ж, недурно, — сказала Елизавета Павловна, когда Гриневицкий кончил статью. — Хотя Герцен, верно, написал бы лучше.
Гриневицкий весело рассмеялся.
— Совсем плохо написано. Я удивился. Мне и читать было совестно.
«Все-таки этот юноша не должен так выражаться о членах Исполнительного комитета, — с легким неудовольствием подумала Лиза. — Ничего не поймешь в нем, на него глядючи …» Она посмотрела на часы, хотя никуда не спешила. Гриневицкий тотчас встал. За ним, с видимым облегчением, поднялся и Рысаков.
— Что ж, не хотите закусить, друзья мои? Разве вы так спешите?
Гриневицкий поблагодарил и объяснил, что они должны быть по делу у Воиновой, — не сказал, по какому делу. Елизавета Павловна знала, что сигналистам (их еще иначе называли «слещиками») поручено следить за часами выезда царя. Но Александр II в последнюю неделю не выезжал из Зимнего дворца, и сигналистам нечего было делать. Михайлов и Желябов присматривались к ним, чтобы выбрать из них кандидатов на более опасную работу. Оба они твердо обещали Лизе, что Машу ни на какую другую работу не возьмут. «Нет, ей и это не по силам!» — подумала Елизавета Павловна, все тревожнее поглядывая на сестру. «Если она узнает, что за мной установлена слежка, то она сойдет с ума!..»
— Ну, что ж, если по делу и к Воиновой, то я вас, друзья мои, не задерживаю. Долг прежде всего, — шутливо сказала Лиза, давая понять, что все знает. Она вышла за ними в переднюю и чуть было не попросила молодых людей потом проводить Машу домой. «Впрочем, юный шляхтич, наверное, ничего странного не нашел бы в том, чтобы проводить шановну паненку, — подумала она, почему-то забавляясь этой игрой. — Но Маша умерла бы от стыда».
— Как папа?
Маша тяжело вздохнула.
— Жалуется, что не идет работа.
— А ты сама, Машенька? — быстро спросила Елизавета Павловна.
— Я? Я отлично! — испуганно ответила Маша. Лиза крепко ее поцеловала. Рысаков сконфуженно отвернулся. Гриневицкий с той же мягкой ласковой улыбкой смотрел на сестер.
Елизавета Павловна вернулась в гостиную, села на диван и положила на колени бархатную подушку. «Что-то у нас стали плохо топить…» Она взяла со столика книгу «Отечественных записок». «Ох, какая скука… Да, папа, Маша… Что ж делать? Не мы одни. Все наше поколение обречено… Пусть они там торгуют рокфором без меня… Я очень устала. Быть может, я состарилась, как моя пленительная belle-soeur[256], теперь по уши влюбленная в Мамонтова… Да, он, Мамонтов, был в чем-то прав… Он сказал вчера обо мне что-то важное… О том, что со мной сейчас. Но что?»
Она накануне завтракала с Мамонтовым в кофейне Исакова. Он много выпил, говорил безумолку, все перескакивая с одного предмета на другой. «Кажется, он начал со своих обычных шуточек: „Эту кофейню, Елизавета Павловна, когда-нибудь будут показывать посетителям: „Здесь собирались народовольцы… Это столик Елизаветы Черняковой, повешенной в 1881 году“. Я рассердилась: „вы пьяны“. Он хохотал и изображал актеров: „Эх, брат М-митрий, забыться хочу!“ Сказал, что любит разговаривать с женщинами выпивши: „Говоришь лишнее, на следующий день стыдно, а в этот день приятно“. Но какое мне дело до того, что говорил Мамонтов! Впрочем, я и сама люблю так разговаривать, быть может, даже люблю это больше всего на свете… Он говорил, что чернопередельцы гораздо умнее нас: у них вожди для руководства движением в России уехали или уезжают за границу. Говорил, что мы и чернопередельцы вроде как доминиканцы и францисканцы: „Вы помните, Фра-Анжелико, добрый доминиканец, своих грешников в аду писал не иначе, как с братьев-францисканцев…“ Что-то еще говорил о художниках, только я не могу вспомнить, и незачем, конечно, вспоминать. „У Веронеза крест — такой шедевр столярного искусства, что думаешь об этом, а не о распятии…“ Кажется, это тоже относилось к революции, но как, не могу вспомнить… Завтра я должна была в два часа быть у портнихи. Попросить Мишу сказать ей, что платья не надо? И, значит, опять, чтобы Миша заплатил?.. Он и над Мишей насмехался, и я сказала ему, что прошу его так не говорить о моем муже. Или он догадывается, что наш брак фиктивный? Он умен, Мамонтов, но у него пошлый ум. Потом он говорил о Достоевском, и тут-то что-то было обо мне. «Ваш Достоевский — гениальный писатель, учившийся литературе у самого Эжена Сю. Все его Ставрогины — это новые Дубровские, они хороши для семнадцатилетних барышень, которые мечтают спасти их любовью. Гениальны же у него те сцены, где все действующие лица уже не полусумасшедшие, а совершенно сумасшедшие: например, князь и Рогожин у трупа Настасьи Филипповны. На Достоевском нет Божьей благодати, так как жизнь за нелюбовь к ней мстит писателю лишеньем поэзии. Вот, наоборот, «Анна Каренина“, и с самоубийством героини, вся насквозь пронизана светом, летним уютным светом дворянской деревни, — роль уютности в литературе еще ведь не оценена критиками. Граф Толстой? Он величайший из величайших, я за «Войну и мир» и «Казаков» отдам Шекспира и Гете, но жизнь со временем тронет его творенья, так как он слишком связал себя с ее временными и местными формами. Если бы в России существовал приличный закон о разводе, то каково было бы графу Толстому? Ведь Анна, чем бросаться под поезд, вышла бы замуж за Вронского, а Пьер развелся бы с женой и женился на Наташе, не дожидаясь Отечественной войны. Ничего не поделаешь, всякий роман со временем становится историческим романом и вызывает печаль, как старая затрепанная адресная книжка с адресами давно умерших людей…» Нет, я плохо помню, что он говорил, кажется, он говорил не так. Не все ли равно, и пропади он пропадом, Мамонтов!.. Но что же было обо мне, о том, что сейчас?.. Странно, он пишет какие-то скучные, никому не нужные статьи, а говорит превосходно, хоть бессвязно, — я так и люблю. Очень он распустил вчера перышки. Кажется, ему моя belle-soeur осточертела… «И на вас… на нас тоже нет благословения, потому что вы в душе свободы не любите, потому что для вас свобода — это теория, как бетховенская музыка для немузыкального человека. У вас нет внутренней свободы, нет духовной свободы, и самый быт ваш свободу исключает, а быт рано или поздно подчиняет, переделывает, переламывает людей. Вот ваш отец любит и чувствует свободу, и Россия сильна такими людьми, как он, а нами лишь в той мере, в какой некоторые из нас к этому приближаются. О, не думайте, что я над всем издеваюсь, я не провинциальный демон, я горжусь тем, что принадлежу к русской интеллигенции, с ней жил, в ней жил, в ней надеюсь и умереть, но… Я знаю, Желябов, Перовская, Михайлов, каждый по-своему, замечательные люди («меня не назвал»). Таких, со всеми их недостатками, верно, немного найдется на земле. Они люди тройного сальто-мортале. Быть может, эти люди — соль земли, но возможно и то, что такая соль землю погубит…» «Иначе говоря, вы находите, что больше всего свободу любят те, которые за нее не борются», — сказала я. Он перескочил на что-то другое, кажется, на веру, и что-то тоже наговорил страшно глубокомысленное, что никакой Бог ему не нужен, а нужно бессмертие и не то, которое обещает вера. А уж если нужна вера, то легкая, нетребовательная, греческая, где боги ничем не лучше людей, где есть жертвоприношения, те же взятки богам… Кажется, и это он говорил не так, и как-то все связывал с революцией. «Революционная работа — тот же сон, ведь сон — это когда человек живет и думает без логики… Знаете ли вы эти страшные сны с перерывами, — просыпаешься, засыпаешь опять, и новый сон, с новой фабулой, и раздвоение людей, — один человек появляется, думает, говорит в двух видах, и хуже всего, когда раздвоенный человек — ты сам… И все мы, даже лучшие, особенно лучшие, мы как быки ассирийских скульпторов, гадкие звери с благородными человечьими лицами». И что-то тут он сказал обо мне, о себе, и это было верно, хоть я не помню, при чем тут были эти благородные лица… Ах да, он сказал, что есть проза мученичества и что я этой прозы не вынесу. «Знаете прозу болезней? Я видел, как Сара Бернар умирает в „Даме с камелиями“. Очень красиво и поэтично, но на самом деле люди умирают от чахотки совсем не так. То же и с мученичеством. Взойти на эшафот вы, Елизавета Павловна, пожалуй, могли бы, но тюрьма, каторга, унижения, оскорбления, грязь — это не для вас и не для меня». Тут он и заговорил о Достоевском: «Мы с вами люди одного безумия!» Но у меня все выходит ни к селу, ни к городу… Он назвал меня спортсменкой террора, сказал, что я живу для сильных ощущений… Я тоже много выпила и говорила лишнее. Да, ему как будто стало меня жалко, когда я сказала, что у меня бабушка умерла в доме умалишенных. Кажется, он был испуган. Я спросила его, верит ли он в наследственность. Он отделался шуткой: «Негритянская принцесса сказала королеве Виктории, что в ее жилах течет английская кровь: „мои предки съели капитана Кука“. Я смеялась, хоть это было глупо. Я могла бы вскружить ему голову… Под конец мне пришлось его осадить. — „Вы обиделись?“ — „Я никогда ни на кого не обижаюсь“. — „Да ведь это, Елизавета Павловна, классический ответ всех обидчивых дам…“ Каков бы он ни был, а он в одном сказал правду: это не для меня… Теперь, во всяком случае, сильные ощущения не нужны. Страх? Нет… С Машей что будет?»