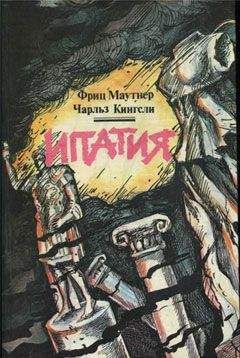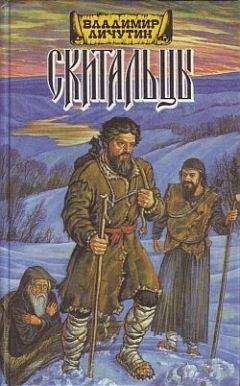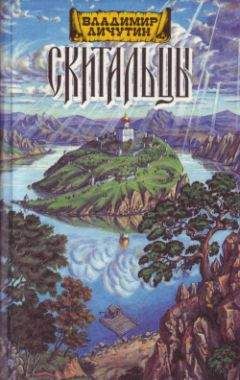Владимир Личутин - Скитальцы
Команда приволокла охапки розог. Сколько влезло, загрузили в чан с водою, где только что освящалось тело «богородицы». Сама она сейчас лежала на лавке под образами, закрытая с головою серым дерюжным покрывалом, и две пророчицы с трудом удерживали ее тело, замиряли, утишали объятьями пробуждающиеся больные корчи. Марьюшка плакала, что-то бессвязно кричала из-под дерюги, ей было душно в той темени, куда отлетела ее несчастная душа.
Казаки разобрали богомольцев на обе стороны: женщин в одну, мужиков – напротив. И лишь юродивая осталась как бы сама по себе, ни один государев слуга не осмелился указать ей иль прикрикнуть, не то приневолить силою.
Таисья давно узнала Сумарокова. Несмотря на прожитые годы, он мало переменился, а когда отогрелся с мороза, скинул с плеч дорожную шубу, то стал вовсе прежним, той поры барином, который однажды, будучи уездным землемером, приехал к ним в дом на постой. Таисья с любопытством рассматривала Сумарокова, не испытывая к нему ненависти, но толпа скоро накалила и ее. Ну ладно, случилось, что изверг этот распорядился Таисьиной судьбою и зачеркнул. Но почто на чужую волю сердечную он покушается? Вся-то жизнь под присмотром, под надзором: туда не ступи, того не смей, – так хоть душевную-то волю ты оставь человеку, позволь в себе-то самом жить, как ему хочется, по его складу и ладу. Вот сколь далеко надо в человека вгрызтись, аж как клещ, в самую-то сердцевину. Вторгся в избу не спросясь, раскомандовался, грозит грозою. Подумаешь, выпугал. Кто смерти не боится, того палкой не проймешь. Ты с него шкуру с живого сыми, а ему лишь в радость.
Таисья, видимо, слишком навязчиво, назойливо торчала в одиночестве, и Сумароков не смог обойти ее вниманием. В глаза лезла черная затасканная ряска, кожаные чуни, чугунный крест на груди. Лицо затенялось сумраком возле порога, да оно и не нужно было исправнику: мало ли юродивых, нищенок, побирушек скитаются по российским дорогам, грех замаливают, тщатся со святыми вровень встать. «Собрать бы их всех в едино место, клопам на потеху, да и известь», – подумал машинально, но одинокая фигура возле порога вносила смуту даже своим присутствием, и исправник недовольно приказал:
– Что там за барыня у двери? Иль гоните прочь юродицу, или задвиньте к бабам! – Задвиньте, ну! – А то портит картину.
Но казаки мешкали, и тогда исправник поискал взглядом возничего Лешукова, давеча выпоротого на заимке, и кивнул ему. Тот готовно подскочил к Таисье, дернул за ряску, оторвал рукав, открылась тонкая, удивительно белая, почти неживая рука. Казак оторопел, а Таисья рассмеялась хрипло, простуженно. «Закаркала лешачиха». Некоторая оторопь взяла Сумарокова. А Таисью ровно кто подтолкнул мягко за плечи. Она вышла на свет, в середину горницы, к кадце, где мочились розги, сама достала пук перевязанных виц, подала исправнику:
– На, бей, еретник...
Исправник не заметил насмешки, но смотрел в лицо юродицы, низко повязанное черным платом, в длинные зеленые глаза. Белое лицо, тонкий нос напомнили что-то знакомое, имели сходство с постоянным ночным виденьем, навещавшим Сумарокова.
– Кто ты, баба? – спросил Сумароков неживым голосом. – Предъяви вид на жительство. Чья ты?..
– Из сосыланных, батюшка. Аль не признал, лешачина? Память зашибло, шиш разбойничий? Гались, ну гались давай, – всплеснулась Таисья, саму себя хлестнула розгами по бедрам. – Припомнил девицу-голубицу, как честь-то отымал? Ой, все помнишь, по глазам вижу, что все. Не забыл, верно? Коли ночами-то прихожу да в изголовье стою, доглядываю. Что, думаю, за изверг?..
– Да нет... ты не смей. Напраслину не взваливай. Тебя раз увидишь – вовсе спать перестанешь. А у меня пока сон детский, – заотказывался исправник, но от всеобщего внимания и той тишины, в которой каждое крохотное зернышко злодейства прорастет с дерево, невольно смутился. – Знать, по делу в Сибирь? Сюда зря не гонят. Смелая больно, я дело запрошу. Посмотрю. Не из ночных бабочек? Я тебя по крыльям узнал. Что-то, думаю, напоминаешь...
– Как не напоминать, и очень даже. Аль забыл, сердешный, как за волосье-то волочил меня, невинну девицу, ради прихоти да как надругался? Ужель из памяти вышибло, как тело мое белое терзал, быдта ворон во поле чистом, и ниоткуль мне ни надеи, ни подмоги. Братушки и сестрицы, гляньте-ка на злодея, – Он все забыл, христопродавец, измыватель сердешный. У него, значит, память отшибло. Ну, гляди пуще, злыдень!
Таисья придвигалась мелкой поступочкой, ее знобило. Вот, оказывается, кого видеть-то хотела все эти годы; думала, увидеть бы каина да взглянуть в его обличье, в глаза окунуться – вздрогнут ли они, есть ли что человечье в них?! – И вот взглянула, и сердце сжалось: зыбь там одна, мельтешенье, словно снег-сеянец кружит, непогодь там и ледяная пустынь. Проймет ли его слово? И неуж душу навовсе продал фармазону и живет сейчас с пустою грудью, не страдает, не мучится?
– Сыми фуражечку, сыми, – попросила вдруг, и лицо стало жалобным, слезливым.
Сумароков неожиданно покорно снял фуражку, обнажив крупный череп с длинными залысинами на висках... Нет, рожки не обнаружились, не проросли пока. Таисья облегченно вздохнула.
– Думала, черт в лешачьем образе, – призналась она тихим простодушным голосом.
Народ в избе засмеялся, исправник очнулся от наваждения, пришел в себя. Загрозился сразу, велел скамью вынести середка комнаты, сам к столу отошел, в спине прогнулся, опершись ладонями о край столешни. Кричал гневно, торопил казаков, молнии сверкали в пасхальной горнице на головы бедных, искренне напуганных богомольцев. Но гроза была той, августовской, в рябиновые ночи, когда по всему небосклону гуляют зарницы, глаза слепит сполохами, но ожидаемых громовых раскатов нет. Пусто внутри клубящегося аспидно-черного неба, не рождается там дракон. Не напасть ему на Таисью, для коей и назначалась вся гроза. Так и в Сумарокове жила под сердцем удивительная засасывающая пустота: один человек что-то командовал, размахивал руками, брызгал слюною и угрожал невиданными карами, но другой Сумароков все свои кары видел бессилыми, беспомощными.
Заплакала бы монашена, взмолилась, на колени бы пала – вот и торжество бы для Сумарокова, вот и умиление сердечное. «Юродицу сечь – грех неизнашиваемый, черный, непростимый грех. У кого подымется рука на юродицу – тот конченый человек», – думал он. А Таисья пощады не просила, но с улыбкою на устах добровольно легла, рясу заголила, обнажив изнуренное тело, покойно закрыла глаза. И народ замер.
Лешуков подсекал сердито, вымещая боль, отпечатавшуюся в ягодицах. Когда вздымал руку, исподники отрывались от подсыхающих мясов, кровоточили раны, и свою досаду и злость казак заглушал чужою болью. Таисья не стонала, но, закусив губы, лишь бледнела, мертвела ликом. И оттого, что не вопила, не металась, она быстро сомлела и потеряла память. Сумароков забылся, подошел вплотную, наклонился над расписанным телом, обегая единым взглядом от пяток до острых девичьих лопаток, и изумился, что вроде бы знает и помнит его. Хотя там, в тундре, под Мезенью, ничего же видеть не мог, пьяный и безудержный. Но откуда же тогда помнит стройное узкобедрое тело с острыми детскими лопатками? Забыл исправник, забыл, что тою же ночью в пьяном угаре терзал Таису в чужой избе под образами, волочил по полу нагое тело, намотав косы на руку, и девка металась, изворачивалась, билась в его руках, как большая белая рыбина.
И неуж запамятовал, сердешный? А раз такое запамятовал, то и не вспомнится более, не всплывет.
Ровным полусонным движением Сумароков потянул рясу к ногам юродивой, прикрыл наготу, цыкнул на Лешукова, чтоб тот отвернулся, злодей. Приказал уряднику замкнуть радельников до утра и зорко стеречь, а сам торопливо вышел, брякнув ножнами о косяк.
«Зачем не простил? Простить бы надо», – мучился Сумароков дорогою к избе старосты. И в доме уже, люто напившись, он не мог расстаться с назойливой мыслью, и с каждою рюмкой вина его росла. Несколько раз он выходил на волю, порывался к избе Аввакума, но с полдороги ворачивался. Он пьяно качался в темени, скрипел зубами, и от этого надрывного стона, шатаний и бессвязных мольб становилось вроде бы легче.
Ночью во сне Сумароков сильно жалел себя и горько плакал. Как всегда, пред самым утром явилась юродица, ныне особенно светлая лицом. Сумароков вздымал глаза и видел перевернутое и оттого странное лицо ночной незваной гостьи. Она слегка сутулилась в изголовье и молча утешала плачущего легким касанием прозрачного покрова, тем самым лишь усиливая слезы.
Глава седьмая
Симагин добрался до реки Мылвы без помех. Там они встали на лыжи, загрузив себя переметными сумами, а лошаденку с пустыми розвальнями повернули встречь дому, хорошо взбодрили ее понюжальником[90] , перетянули по хребтине, и та с охотою помчалась к дому по знакомой дороге...