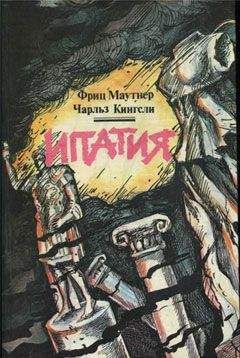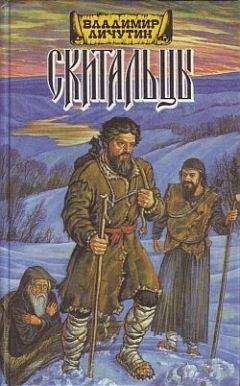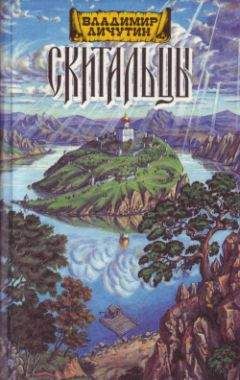Владимир Личутин - Скитальцы
Но ежели бы она воистину творила благодать и любила человека, восприявшего Библию как милых сердцу родителей, то неужели не доверилась бы ему и не сотворила блаженство? – размышлял Аввакум.
Сколько она говорит, о стольком же и умалчивает. И скрытность эта притягивает, но и разлучает с книгой.
Книга Бытия... Что в глуби ее, на самом дне, да и сколько дон? Наверное, счастлив тот, кто вовремя остерегает себя и пресекает желанья осилить ее.
Аввакум встрепенулся, и кости его наполнились тем воздухом, что позволяет лететь. Какое-то время стало жаль растрачивать редкое чувство, и он замешкался, но тут же укорил себя. Легкость распирала его, и глаза наполнились светом. Подросток-хлопотун, Аввакум пробежался по горенке, задержался взглядом на госте.
– Ну, лежи-полеживай, парень. Наращивай мяса.
– Хлопот-то сколько принес. Ты прости, батя...
– Пустое... ну, полетел я.
Аввакум открыл дверь, подпрыгнул и полетел. Наверное, так показалось Донату? Он снова отвернулся к стене и сразу заснул с мыслью о Беловодье.
Такое было впечатление, что даже с иных губерний съехались христовые братья и сестры. Широко разошлась слава Аввакума. Дня три-четыре продлятся годовые радения, а то, глядишь, и на неделю затянутся...
Уже в сутемках попался по дороге Симагин, затеял будто случайный разговор, был смирен и кроток, говорил невнятно, глухо, будто винился в чем и тягость сымал с сердца; предложил отвезть беглеца к Паисию, от греха подальше, благо дорога ведома. Пока колея не рухнула, пока стоит, надо скрыть гостя от глаз подале, а то, не ровен час, гроза грянет, навлечем беду на Спас. Обманутый тишайшим голосом, Аввакум не перечил, легко согласился и дозволил лошадь взять. Но не ведал он, что на заимку Кушеватово уже сряжалась казачья команда и вот-вот нагрянет. Не раз, проклиная себя и утешая, весь дерганый выходил Симагин за околье, давил, щурил глаза в черные елани, где терялась дорога. Виделось хорошо, ясно, торжественно, но Симагина темь мучила. На запольках, на коренастых березах солидно покачивались косачи, и в них было столько покоя и свободы, что Симагин невольно позавидовал. «Под боком мясо-то, вон дичина. А им, постникам, на что?» – туманно подумалось. Шумнуть бы на них, да опасно уходить от села: вымчат казаки из пихтачей, возьмут в оборот, пока-то суд да дело. Симагин вроде бы и торопил гостей, но и пугался их, заплутав в размышлениях.
Все эти люди, что крались ночью заулками, меж заплотами, путаясь в сугробах, – не дети же сатанаила, не исчадье ада, но мытари, трудники, пахари, те, на ком стоит и крепится земля наша. Отчего же ушли они от церкви? Какой духовной несвободою оскорбляла она, если отказались от единого Бога и избрали своего, из гущи, из самой тьмы, и наделили его венцом. И неуж Аввакум отныне одарял блаженством, охранял и сохранял этих отроков и отроковиц, давших обет девства, стариков, ушедших жить в запечье или в баньку, только чтобы не видеть бабы своей, с коей век прокуковал, и жены отделились от мужей, ибо житье с ними пуще всякого греха. От кого отвернулись, от кого? Не от нехристей, не от шишей бродячих – от своих же благоверных, с кем век прожили. Любили же, почитали, гордыню смиряли, друг подле друга старились, – и вот вмешался третий – Бог. И разлучились на грешной земле во имя какой такой грядущей благодати. И вроде в одной избе кукуют, но живут отныне как брат с сестрою, и ни одной похотной мысли, хотя иному-то мужику едва за сорок и порой и менее. Иная-то голубица едва переступила девичий возраст, а уж дала обет чистоты, от ласки отказавшись, от детей, от будущей памяти. Какая сила неволит?
Люди делятся на две породы.
Один утешает себя тем, что все умрут когда-нибудь, не только он. Другой же утешается тем, что он умрет (судьбу не объедешь), но другие-то останутся жить и после него. И чем больше будет на миру людей второго сорта, тем дольше продлится человечий род.
Но Аввакум! Ежели ты жалельщик, ревнитель и устроитель всеобщего счастья, как же ты соединил в себе первое и второе? Ты уверовал, что и после тебя пойдет по земле твоя вера. Но кто понесет ее, если лепоты всяческой избежать, если супружеское соитие отринуть? Кто же, Аввакум, продлит твою истинную веру в веках? Ежели каждый из братьев и сестер твоих увянет на корню, как древо после пожога, как сухостоина, съеденная выползком? Ты позаботился об этом? Не снедает тебя тоска по напрасно засохшему семени твоих братьев? Скопцы зарезали своего врага, а ты повелеваешь бороться с живым, удесятеряя страдания. Говорят, поморцы на что уж твердые ревнители старой веры, но и те, опустив очи долу, согласились на семью.
Марьюшка, «богородица», прошла, низко поклонилась – в тулупчике с лисьим воротником, в белых пимах своекатаных. Недавно была она у Таисьи в зимовейке на отшибе от деревни, с час. наверное, посидела и заколела. Дивилась тайно, как это монашенке можется в таком неурядливом житье, печалилась робко, боясь и желая отчего-то подобного пути.
– Тяжко мне, сестрица, – жаловалась Марья. – Дух чижолый спирает. Горе вижу на горе, черный всадник едет с большою плетью. Как жиганет – кровь ручьем.
– Крепись, голубеюшка, испей чашу... Чему научу? Кротости лишь, – уговаривала Таисья.
– Ой, чижало, матушка, мочи нет. Как свинцу налилась. И неуж Христосик во мне?
Моргала наивными голубыми глазенками, морщила детский лобик, едва присыпанный желтой пыльцою, но пухлые губы с жесткими морщинками в углах кривились грустно, с далеко запрятанной болью. С неделю назад сронила ее падучая, и, полетев в бездну, махая руками, она увидела внизу на горе всадника на черном коне у кровавой реки.
– Не разродиться, вот чую.
– Ты рожай, рожай, слышь? – увещевала Таисья. – Родишь мужичка, от него еще мужичок, да ежели все по вере, по чистоте, то какое воинство подымется. Ты рожай, голубеюшка. Это, наверное, хорошо. Я к вам хожу на бесёды, но я вас не люблю. Вас бесы мучат. Но если ты родишь, я тебя полюблю, я тебя не оставлю.
Ее бы, Таисью, кто пожалел, а она вот жалела гостью, живущую в достатке, из крепкой семьи девку. Сидела юродивая в рваном армяке, на полатях с кучею тряпья в изголовье, свесила ноги в заскорбевших от воды и стужи чунях. Лицо испитое, чахлое, одни глаза, но в них – незамутненная искренняя радость. Только в глаза глянешь, взглядом этим проникнешься, будто живой воды изопьешь, и то куда легче станет, как бы всю тебя изнутри обмоет, освежит.
Корабль собрался, чтоб принять благодать, причаститься телом богородицы. Людно оказалось в собрании, всем захотелось быть на бесёде. Вдоль стен на лавках расселись; в переднем простенке под образом, увешанным расшитыми полотенцами, большой стол, крытый белой скатертью, совершенно пустынный. Лишь толстая Библия посередке да свеча в шандале. Но по стенам много свеч ярою воску, и оттого светло. Ближе к порогу, посредине избы, широкая кадка с горячей водою слегка парит. Таисья сутулилась у порога. Она глухо покашливала порою, но чаще крепилась, унимала грудь, чтобы не нарушить благоговения, и оттого, что сдерживалась, порою особенно громко, надорванно бухала в кулак – и тогда виновато улыбалась всем сразу, оглаживала тяжелый чугунный крест, доставшийся от раскольника-бегуна, скончавшегося на этапе. Крест лит в уральских скрытиях под мужскую широкую грудь, весу фунтов шесть; цепь от него обнимала, тянула к долу исхудавшую Таисьину шею, потому редко она смотрела ныне пред собою, но больше под ноги, топча и изнуряя свою гордыню. Много вер прошла Таисья за эти годы, и ни одной не приняла сполна, отринула, ни к какой не прислонившись насовсем. И здесь-то, в жарко натопленной избе, случилась она лишь по жалости к заблудшим, чтобы спасти их от греха, от еретического соблазна, затмившего разум. Уже не раз увещевала она корабль, и хотя терпели пока пророки и апостолы, но грозились побить каменьями в науку; и когда грозились, то она улыбалась и согласно кивала головою, дескать, с радостью приму муку. Но вот нынче худо подавать стали, с пустою кружкой таскалась Таисья по окольным деревням, собирая на новый храм, куда бы каждый вошел и исцелился.
Таисья взглядывала на кадцу посреди избы и недоумевала, к чему она, но как-то связывала с этой девчонкой лет шестнадцати, что сидела в кресле под образами. Светлые волосы распущены по плечам, по радельной рубахе, тонкие ладони молитвенно прислонены к лицу и, казалось, просвечивают, и сквозь проглядывают широко распахнутые застывшие глаза. Этого неотвязного взгляда никак не избежать Таисье, и она томится, старается что-то вспомнить, и вдруг под образами узнает себя, давно потерянную и совсем забытую, накануне любви своей. И хочется Таисье выкрикнуть: «Идите, дети мои, плодитесь и сейте семя, на что Богу темная, нежилая земля? Куда с ею деться, если душ потерянных все больше и вы уходите? Плодитеся, дети мои, – хочется вскрикнуть. – А может, рыдала Таисья зажато, и это не кашель вырывался из груди, но сухой тайный плач. Может, утроба мучилась и изнывала? Ну как изнурить себя, какие муки еще преподать? – Жалею девочку эту, как дочь свою. Ой, мне бы принять в себя ее груз, с какой бы радостью таскала в себе живую тягость... – И гладила Таисья чугунный крест, истекающий потом, и ту влагу нюхала украдкой, пахнущую кисло и ржаво. – Аввакум-то вчера баял: поди, говорит, Таисья, в монастырь, святой станешь. Да это вы, грешники, как в затворе, о себе лишь чаете. А я средь живых хочу быть. Вы бы жили, радовались, а я бы за вас страдала, я бы вашу душу спасала...»