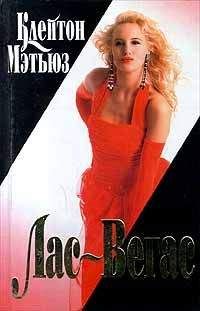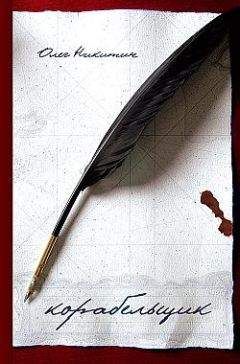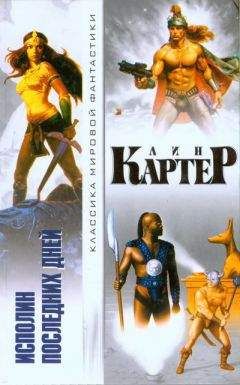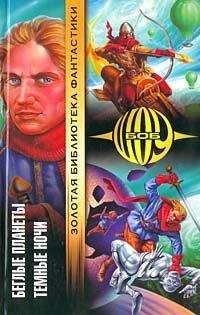Владислав Бахревский - Столп. Артамон Матвеев
Царь осмотрел место упокоения, приготовленное для себя во время жития в Воскресенском монастыре самим Никоном. Могила была в пределе святого Иоанна Предтечи под Голгофою, стены выложены белым камнем.
Фёдор Алексеевич пришёл в собор вместе с Петром.
— А он от старости умер? — спросил царевич.
— От старости.
— А старость, когда борода длинная?
— Когда лет много, — сказал Фёдор Алексеевич. — Когда жизнь была долгой.
— Я девять лет уж прожил. — Пётр выставил перед собой пальцы, большой на левой руке загнул. — Много?!
В глазах ужас.
— Мы с тобою, брат, молодые, — улыбнулся царь.
Гроб с телом покойного привезли в тот же день, 25 августа. Доставили на Мельничный двор. Фёдор Алексеевич пожелал присутствовать при обряжении святейшего, так ли всё будет сделано.
Иноки сняли с усопшего схиму, свитку, власяницу, вириги. Надели белую греческую рубаху, сотканную из верблюжьей шерсти. На рубаху — рясу таусинного[55] бархата, на рясу архиерейскую патриаршью мантию с источниками, со скрижалями, шитыми золотом. И наконец, любимую аввой панагию, яшмовую, с прорезным изображением Богоматери и Предвечного Младенца, омофор, клобук...
Всё это тоже было припасено для себя самим Никоном.
Спать Фёдор Алексеевич лёг сразу после вечерни, не поужинав, но среди ночи проснулся. И понял — от голода. Затеплил от лампады свечу. Открыл шкафчик — книги. Открыл другой — свечи стопками, берестяные туески, коробочки. В коробочках ладан, еловая смола, камешки. В туесках — сушёные ягоды шиповника, малины, черёмухи. Взял черёмухи. И что-то весна сразу вспомнилась, захотелось тополиной сладости в воздухе.
В келию заглянул монах, приставленный к государю на потребы, за перегородкой ночевал.
— Ясти захотелось?
Фёдор Алексеевич виновато улыбнулся:
— Вчера день выдался суетный, забыл о еде.
— Селёдочка у меня есть да сухарики.
Селёдка была жирная, вкусная.
— С Плещеева озера, — сказал монах. — У меня ещё одна есть.
Фёдор Алексеевич съел и вторую селёдку, с молоками. Аржаные сухари пахли русской печью, похрустывали весело.
— Скажи мне, отче! На батюшку моего, на Алексея Михайловича, среди иночества есть обида? Круто ведь обошёлся с новопреставленным.
— Иноческому чину недосуг обижаться — успевай Бога молить.
— И у батюшки, и у святейшего пыхи были яростные, обиды горчайшие. Скажи, отче, правду, велик грех на батюшке моём? Ведь ежели сей грех на батюшке, так он и на мне. Я шестой год на царстве, не при Алексее Михайловиче, а при Фёдоре Алексеевиче святейшем был ввергнут в строгое заточение.
— Всё от Бога! — сказал монах. — Коли допустил тебя святой отец наш погрести останки его, значит — прощён.
Помолились.
Заснул Фёдор Алексеевич после полуденной трапезы быстро и крепко. Пробудился полный сил. Действо предстояло великое и долгое.
В первый час дня раздался благовест большого соборного колокола. Звон подхватили другие колокола, собирая к Крестному ходу братию, всех прибывших и окрестных жителей. Великий государь, митрополит Корнилий, духовенство, бояре, дворяне, крестьяне с пением: «Днесь благодать Святого Духа нас собра» двинулись из монастыря к большому каменному кресту на горе Елеонской.
Здесь с телом святейшего ждал архимандрит Викентий.
Пришедшим ко гробу роздали чёрные свечи. Владыка Корнилий отслужил с архимандритами краткую литию.
Гроб Никона подняли на руки. Начался последний путь. Носильщики менялись. В собор усопшего вносил с боярами сам великий государь.
Собор огромный, как Вселенная. Хоры пели так, будто все Силы Небесные собрались принять душу страстотерпца. Двенадцать отроков, в белоснежных, с золотым шитьём, стихарях, с аршинными свечами, как с мечами, окружили гроб, аки ангелы.
Поминали Никона на ектениях патриархом, кафизму и апостол читал сам Фёдор Алексеевич.
Десять часов продолжалось погребение.
Пришло время последнего прости. Царь вынул из-под мантии руку Никона, поцеловал. Сё был первый его поцелуй святейшего, ибо родился Фёдор Алексеевич три года спустя по оставлении Никоном патриаршества.
Глянул на тёток своих, на сестёр, сказал:
— Подходите!
И все совершили целование.
Было темно, когда сели за поминальную трапезу.
Фёдор Алексеевич подарил митрополиту Корнилию облачение и святые сосуды из ризницы Никона и от себя сто рублей. Монастырю пожаловал тысячу. Самую дорогую митру и самый дорогой саккос святейшего Никона великий государь повёз в Москву, в подарок патриарху Иоакиму. Патриарх сего подарка не принял.
Так закончился земной путь величайшего из патриархов Московских и всея Руси, ибо святейший Никон был ровней царям и удостоился царского титула, подобно святейшему Филарету, но тот был родителем царя Михаила, родоначальником династии Романовых. Никон же — крестьянский сын, родом мордвин, поднятый Господом на вершину духовной власти ради иноческих трудов и дерзновенного стремления возвести на земле Российской — царствие Божие.
С Никоном ушла в прошлое эпоха простодушных надежд. А что величавее простодушия? Увы! Где великое, там и грехи до поднебесья.
Змея оставляет старую сухую кожу, выползая к новой жизни, влажная, молодо сияющая узорами. Так и Россия.
Приходит время, упирается в камень преткновения — и, оставив всё прежнее, великое, святое, нажитое, — уходит в иную жизнь, молодая, бессмертная, от века великая.
Через год после похорон Никона, 9 сентября 1682 года, пришли в Москву разрешительные грамоты восточных патриархов. Вселенские владыки восстанавливали низвергнутого в сане святейшего.
Патриарх Иоаким вознегодовал, выразил сомнение в подлинности грамот — ему сначала прислали перевод их. Тогда показали сами грамоты. Уязвили.
Даже к памяти ревновал! Пятнадцать лет был великий Никон — никто, да отныне становился прежним Никоном, святейшим. Не признать сего — перед всей православной церковью согрешить, признать — покаяться за все гонения на немощного старца. Что стыднее мести великим за великость их, за своё ничтожество?
11
Фёдор Алексеевич пригласил вернувшегося из плена боярина Василия Борисовича Шереметева на вручение знамени новому полку иноземного строя.
Лицо у боярина было золотое от крымского солнца, сам крепкий, остроглазый, величавый. Двадцать один год плена не сломили боярина. В Бахчисарае он и в ямах сиживал, и за ханскими достарханами.
Фёдор Алексеевич чувствовал благодарную тягу к Василию Борисовичу: освобождение боярина — его царское славное деяние, и другое примешивалось, почти необъяснимое.
Подумать только, сей человек двадцать лет жил без России, неведомой жизнью грозных татарских племён. Хотелось прикоснуться к этим сокровенностям. Вот он, человек, вот она, сокровищница, да как из неё почерпнуть?
Знамя, камчатное, с Нерукотворным образом Христа в окружении святых отцов, шитое золотом и серебром, великий государь передал Василию Борисовичу, а тот вручил его полковнику Левистону.
Ударили барабаны, пальнули пушки. Вынесли знамёна, хранящиеся в Оружейной палате, — былую славу русского оружия.
— Какое красивое! — показал царь на знамя из чёрной, глубокого цвета, тафты, с птицей гамаюн, с тафтяной белоснежной опушкой по краям полотнища. — Чьё это знамя?
Князь Василий Васильевич Голицын наклонился к государю, сказал вполголоса:
— Артамона Матвеева.
— Ах, Матвеева! — И щёки Фёдора Алексеевича зардели румянцем.
Солдаты явили царю и боярам военную выучку: оружейные приёмы, прошли молодцевато, с лихостью.
— Благодарю! — сказал царь полковнику. — Всем солдатам по кружке двойного вина, по десять кружек пива и по двадцать алтын. Офицерам по три рубля. Тебе, полковник, тридцать рублей.
Шереметева, Голицына, Языкова, Лихачёва Фёдор Алексеевич пригласил отобедать. Сидел со своими любимцами за одним столом, сам вёл беседу.
— Василий Борисович, ты не был в Москве двадцать одно лето! Изменилась жизнь хоть в чём-то или всё по-прежнему?
— Ах, государь! Куда ни повернись — перемены. Весь Белый город — каменный, улицы камнем вымощены. Кремль иной! Новые дворцы, новые приказы... Одеты не как придётся, а благородно. — Василий Борисович замолчал, набычил голову да и глянул царю в глаза. — А всё равно — татарская страна! Все в татарском платье. Разве что женщины без чадры.
— Василий Борисович! — Царь так и просиял. — Я давно твержу: не ходим, а путаемся в длинных полах. Верно! Верно! Татаре. Волосы и те по-татарски стрижём. Наголо. Я, великий государь, самодержец, отрастил кудри, но пример-то с царя Голицын да Языков переняли, да братья Лихачёвы с моими стольниками. И покуда — всё.