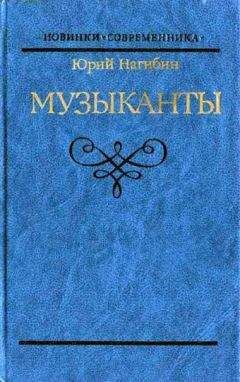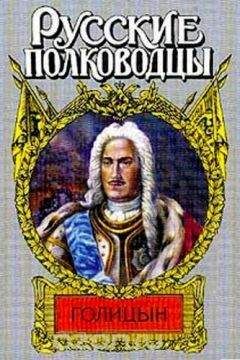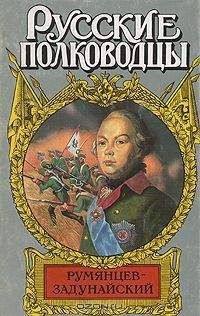Наталья Павлищева - Злая Москва. От Юрия Долгорукого до Батыева нашествия (сборник)
Матрена обратила внимание, что глаза дочери не закрыты и безучастно смотрят на обгоревший выступ стены.
– Погоди, дитятко! Пого-оди, чадунюшко! Вот управлюсь с татарами и закрою твои ясные очи, – нараспев и продолжая плакать, сказала она.
Матрена отошла от дочери и принялась делать то, что делали ее товарки. Рябило в очах либо от наворачивающихся слез, либо от множества татар, заполонивших склон вала и пространство перед рвом. Каждая выраставшая внизу лестница настораживала и торопила. Каждый камень, принесенный и бережно уложенный у ее ног длинноногой и худой девочкой с облупленным носом, она бросала вниз и, затаив дыхание, следила за его полетом. Каждый котел с варом, жегший руки и опалявший лицо, она поднимала с приглушенным стоном, показывавшим, как ей тяжело. Сшибленный с лестницы ворог не приносил Матрене ни радости, ни удовлетворения. Ей было досадно, что она простоволоса, и неловко, когда ветер трепал ее густые, в одно мгновение поседевшие волосы.
Она потеряла счет времени. Казалось, что этот ветреный и пасмурный день длится нестерпимо долго, и если бы ей поведали, что еще не наступила обеденная пора, Матрена бы изумилась.
Вдруг Матрена приметила, что до ее слуха перестали доноситься голоса товарок. Она огляделась и не увидела на всем обозримом пространстве моста невредимых защитников прясла. Исстрелянные женки лежали и полулежали, раскинув натруженные, изодранные в кровь руки. Неподалеку от Матрены сидела товарка, широко раздвинув ноги в кожаных чоботах, она прижимала руки к животу и громко икала. Матрена позвала людей, но никто не отозвался на ее зов.
– Что же это, я одна невредимая осталась? – вслух спросила себя Матрена. Казалось, что ее уже ничем нельзя было удивить и опечалить, горе так наглумилось над ней и настолько притупило чувства, что не страшила собственная погибель. Но одиночество было для нее таким же тягостным, как потеря дочери.
Она подошла к внутреннему выступу стены и стала звать людей. Внизу – никого. Только дымились костры, подле которых в беспорядке были раскиданы котлы и дрова, мрачно чернели на снегу тела исстрелянных горожан. Чья-то фигура мелькнула перед Владимирскими воротами и скрылась за углом. Матрена бросилась к другой, выходящей на посад, стороне стены. Городской вал был облеплен поднимавшимся вражеским воинством.
Она почувствовала легкое сотрясение моста. Перед ней стояла знакомая длинноногая девочка с облупленным носом. На ней – просторный волочащийся по мосту кожух. Он был так широко распахнут, что виднелась сорочка с влажными округлыми пятнами. Девочка держала на вытянутых руках покатый валун, облепленный снизу комьями снега. Он был величиной с телячью голову, и девочка так напряглась, что от одного ее вида Матрена ощутила тяжесть камня.
– Давай! – попросила она и протянула руки. Но камень вырвался из рук девочки и, глухо ударившись о мост, покатился под ноги Матрены.
– Поди, чадо, покличь людей! Скажи: нет никого на прясле, одна я осталась, – наказала Матрена. Девочка посмотрела на нее просяще. – Иди же! – с мольбой в голосе повторила наказ Матрена.
Девочка кивнула головкой и побежала к лестнице. Перед тем, как сойти с моста, она остановилась и вновь вопрошающе посмотрела на Матрену. Она хотела спросить об отце и матери, бившихся здесь и теперь куда-то исчезнувших, но в последний миг не решилась, посчитав, что просьба этой старой женщины куда важней ее волнения за близких. Матрена нетерпеливо махнула ей рукой, девочка робко улыбнулась и скрылась из вида.
Близкий, исходивший снизу шум потревожил Матрену. Она увидела, что по лестнице, приставленной к стене, прямо под ней, резво поднимаются татары. Передний татарин уже был неподалеку. Он цеплялся одной рукой за кривоватые ступени лестницы, ходившей под ним из стороны в сторону, а другой – прикрывал круглым плетеным щитом голову и плечи.
«Господи, что же это я?» – спохватилась Матрена. Ей стало казаться, что она сотворила донельзя великую и непростительную оплошку: разговорилась с девочкой и упустила время, когда можно было остановить поганых. Она схватила лежавший вблизи валун и с легкостью, удивившей ее, метнула его вниз. Камень попал в середину щита татарина, прогнул его и, скатившись по нему, упал в ров. Матрена надеялась, что татарин сорвется с лестницы, но он продолжал взбираться; по тому, как замедлилось его движение, как косо и некрепко он держал над собой щит, было видно, что ворог уязвлен. Этот неуверенный, но упрямый подъем татарина донельзя встревожил Матрену. Ее внимание привлекла другая лестница, приставленная к стене подле той лестницы, по которой уже не поднимался, а скорее полз ушибленный ею татарин. По другой лестнице быстро лезли поганые, что-то выкрикивая.
Матрена засуетилась, забегала по мосту, вскидывая руки и причитая утробным срывающимся гласом: «Да что же это делается? Ни вару, ни каменьев нетути! Чем же бить татарина!»
Обстрел прясла прекратился из-за боязни поразить татар, бывших уже вблизи заборал. Краем глаза Матрена успела заметить, что уже не две, а четыре лестницы вонзились в стену подле того места, где она стояла.
Все в ней подчинилось одному желанию: не пустить ворога на прясло. Она была уверена, что, окажись татары сейчас на мосту, москвичи и их потомки на том и на этом свете дружно проклянут ее.
Ее беспокойный и затравленный взгляд упал на соседку, лежавшую полукружьем, на боку, подле выступа стены. Тут дикое желание овладело ей. Она даже попятилась и неуверенно отмахнулась. «Упаси меня, Господи!» – пробормотала скороговоркой. Но это желание и улавливаемые из общего гула приступа торжествующие выкрики поднимающихся татар торопили и подхлестывали на премерзкое дело.
Матрена решительно подошла к неподвижной соседке, взяла ее под мышки и подтащила к заборалам, к тому месту, где была приставлена лестница, по которой взбирался ушибленный татарин.
– Прости меня, Господи! – воскликнула она и, перекрестившись, запричитала, глядя на сжавшийся подбородок соседки. – А ты, соседушка, не кори меня за такое глумление. Не о себе помышляю.
Она приподняла соседку, ухватив ее одной рукой за шею, а другой – за ноги, и, стараясь не смотреть ей в лицо, сбросила бездыханное тело вниз на головы ворогов.
Даже не посмотрев, сбило ли нехристя падающее тело соседки, она засеменила к купчихе, лежавшей на мосту ничком в темной, казавшейся маслянистой луже крови.
Купчиха была высока и дородна. Матрена поволокла. Ей было нелегко не только потому, что купчиха была очень тяжела, но и потому, что ранее Матрена была с нею не в ладах.
– Уж больно тяжела ты… Ты бы зла на меня не держала. То я не в отместку тебе, сама видела, что творится! – повинилась она безмолвной купчихе.
Купчиха только безвольно мотала головой и скребла толстыми ягодицами по мосту. На ее лице Матрена заметила привычную угрюмо-недовольную гримасу и отвернулась. Так, поворотивши лицо, Матрена подтащила убитую к стене. Отдышавшись, она приподняла купчиху. От великой тяжести резкая боль полоснула по животу. «О-ох! О-ох!» – протяжно застонала она и едва не выронила из ослабевших и одеревеневших рук громоздкую ношу. Торжествующие голоса татар подгоняли. Матрена, приподняв ногу и подперев коленом тело купчихи, толчком подняла его. Широкая купчиха не проходила между выступом стены и навесом заборала. Матрена скривила побагровевшее от натуги лицо, подала ноги назад, упершись ими о мост, и двумя руками толкнула купчиху. Она почувствовала, как руки подались вперед, и грудью ударилась о выступ стены. Внизу, совсем близко, раздались отчаянный крик, треск, вопли.
Далее Матрена уже не стыдилась перед мертвыми товарками. Она волокла побитых женок к выступу стены и сбрасывала вниз, досадуя только на то, что быстро слабеет, а тела кажутся невыносимо тяжелыми, испытывая облегчение, когда сшибала ворогов, кручинясь, когда видела под собой все больше кривоватых и узловатых лестниц.
Матрена настолько предалась своему отчаянному порыву, что не обратила внимания, как одна из неподвижных и безмолвных женок внезапно застонала, когда она подтащила ее к стене и стала поднимать. Едва Матрена толкнула ее вниз, как женка вскричала. Только тут Матрена поняла, что же означал этот мешавший ей стон.
– Что это со мною делается? Вконец озверела! – сжав руками голову, заголосила она. И тут же замерла с открытым ртом. Обернулась. Там, где должна лежать ее Оленька, – никого.
То, что дочь, хотя и убиенная, лежала подле, придавало ей уверенности и силы. Казалось, что она защищает не только прясло, но и тельце своей Оленьки. И вот нет его. Лежит Оленька в глубоком рву, среди поганых, низвергнутая с крутизны своей же матерью. Родная кровинушка. Теперь будет она лежать неоплаканная, непогребенная, с раскрытыми очами.
К ней, к дочери, рвалась душа матери; пусть Оленька недвижима, пусть бездыханна, но ее лик, остающийся своим даже в вечном полоне смерти, ее хрупкое тельце – все это принадлежало Матрене.