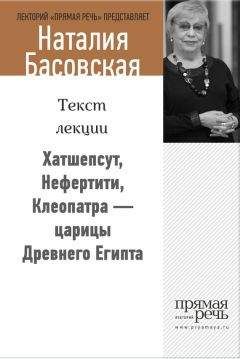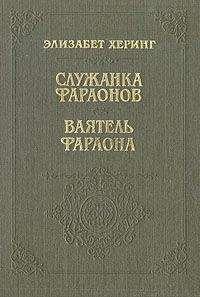Гарри Табачник - Последние хозяева Кремля
Не получая привычных партийных команд, руководители предприятий боялись принять какие-либо решения. А уже вовсю шла вторая мировая война, уже был подписан договор о разделении сфер влияния между германским и советским диктаторами, пели песню „Если завтра война” и развешенные всюду плакаты грозили „На удар врага ответить тройным сокрушительным ударом”. К войне явно готовились, но промышленность стала работать хуже. Следовало сделать выбор: править ли и дальше террористическими методами, подстегивая развитие экономики кнутом, или же допустить инициативу и пойти на ослабление партийного и прочего контроля. Партия выбрала кнут. ХVIII партконференция вновь восстанавливает централизованный партийный контроль.
В июне 1988 года ответить на удар врага „тройным сокрушительным ударом” уже не грозились, и расплодившиеся, как грибы после дождя, популярные ансамбли слагали баллады о поражении в афганской войне, но проблемы, с которыми Горбачеву пришлось иметь дело, были все теми же, доставшимися ему в наследство от той, последней сталинской конференции.
Доклад, которым он открыл конференцию, был весьма поучителен, как образец сочетания привычных формулировок с новыми, как признание поражения, и в то же время упрямой убежденности в правильности избранного в октябре 1917 года пути. Он утверждал, что удалось „установить сползание к кризису” и абзацем ниже уверял, что „новое прочтение получают идеи К. Маркса и В. И. Ленина, которые до недавнего времени либо воспринимались односторонне, либо замалчивались”. Из чего следовало сделать вывод, что сползание к кризису не закономерность в развитии вступившей на путь кризиса с первых дней своего существования советской системы, а результат неверной трактовки замалчивавшихся идей классиков, короче говоря, искривлением их учения, которое теперь надо очистить от этих самых проклятых искривлений.
Приехавший в первые годы после захвата власти большевиками в Москву американский журналист Стеффене утверждал, что увидел будущее, и оно работает. Теперь жившие в этом будущем видел и, что оно не только не работает, но что у них нет и будущего, что все затеянное в тот хмурый октябрьский день 1917 года, когда ленинская партия подобрала валявшуюся на улице власть, оказалось выдуманным миром неосуществимых фантазий, в который, как в дремучий лес русских сказок, оказалась заведена огромная страна. Станет ли Горбачев тем чудо-богатырем, который, побив злобного Кащея, сумеет вырвать из его когтей спящую красавицу — Россию и вывести ее из дремучего леса?
Хотя конференция сама по себе была признанием того, что осуществить утопию невозможно, что страна в тупике, название которого ленинский вариант будущего, вывести ее из этого тупика предполагалось с помощью все того же ленинизма ! Начав свою революцию сверху, призвав вновь обратиться к ленинским принципам, несмотря на то, что именно эти принципы послужили основой развития сталинизма, им осуждаемого, Горбачев питался в одно и то же время и уничтожить плоды революции 1917 года, и возвратиться к ее истокам.
Если побывавший в Советском Союзе накануне сталинского „великого перелома” француз А. Фабр-Люс почувствовал себя, „как герой Эйнштейна, вернувшийся на родную планету поседевшим после десятиминутного путешествия” и все же не уверенным, побывал ли он в „будущем или невозможном”, то теперь уже никаких сомнений быть не могло. В октябре 1917-го началось не будущее, а невозможное — утопия. Генсек этого не признавал, но „невозможная утопия” все время напоминала о себе, и именно с ней ему постоянно приходилось иметь дело.
Назвав продовольственную проблему „самой болевой точкой в жизни общества”, он объяснил ее нежеланием работать по-новому. В связи с этим 3. Бжезинский заметил, что „Горбачев хочет, чтобы советские люди работали, как немцы, но они не немцы”. Генсек забыл сказать о том, что нежелание работать — это продукт советского образа жизни, убившего в людях ростки трудовой этики, которые начали возникать в дореволюционной России в последние полвека перед октябрьской катастрофой, когда осуществлялись действительно „великие экономические преобразования”* Он не сказал и о том, что созданное большевиками так называемое пролетарское государство эксплуатирует пролетариат как никакое капиталистическое, что оно тратит на оплату этого самого пролетариата всего 37 процентов своего валового продукта, или примерно половину того, что выделяется на эти цели на Западе. Постоянно провозглашая, что его главная забота — пролетариат, социалистическое государство своим отношением к нему демонстрировало глубочайшее неуважение к труду.
Умолчав об этом, генсек опять давал обещания, которые слышали не раз, — за оставшиеся до начала нового века 12 лет сделать то, что не сумели осуществить все его предшественники вместе взятые, — обеспечить каждую советскую семью „отдельной квартирой или индивидуальным домом”.
Несмотря на недавние уверения о новом повороте в американо-советских отношениях, он вновь пытался убедить советских граждан в агрессивности „западного военного блока во главе с США”.
— Военная угроза стала для нас постоянной величиной, — говорил провозвестник „нового мышления”, призывавший к устранению „белых” пятен истории, но в словах которого слышалось эхо речей всех его предшественников. — Не снята она и до сих пор, — утверждал он летом 1988 года, хотя уже три с лишним года тому назад в разговоре с писателями признался, что „наш противник нас разгадал и на нас не нападет”.
Подтвердив, что все предыдущие данные о советском военном бюджете были ложными, провозвестник „нового мышления” Горбачев продолжал вести игру по все тем же старым ленинским правилам. Как в 1946 г., когда огромная доля ресурсов разоренной послевоенной страны была брошена на развитие военной промышленности, так и во времена „нового мышления”, невзирая на катастрофическое состояние экономики, одной из причин которого была и начатая Сталиным гонка вооружений, огромные ресурсы продолжали тратиться на войну. И дело было не только в этом. Цифры бюджета лучше всяких слов доказывали, что взгляды советского руководства на мир остались неизменными. За фасадом речей об „общности интересов”, вызвавших у многих американских политических деятелей убеждение, что „Горбачев разделяет наши надежды и чаяния”, возникал все тот же жесткий оскал классовой непримиримости, „железные зубы” генсека, так понравившиеся Громыко. Улыбки и разговоры об общности интересов были вынужденно вызваны жизнью, никак не укладывавшейся в прокрустово ложе законов „бессмертного учения марксизма-ленинизма”. Но у его последователей вынужденное признание в отсталости отнюдь не уменьшило классовой ненависти к „разлагающимся и загнивающим империалистам”, которых столько лет обещали „обогнать и перегнать”, столько лет ненавидели и призывали ненавидеть и к которым теперь должны были обращаться за помощью.
„Горбачев изменился, но эти изменения идут от разума, а не от души”, — замечает Никсон. Ни решимости, ни желания добиться своей окончательной цели у коммунистов не убавилось. Другое дело, что теперь у них для этого не хватало сил. Но как верные ленинцы, они знали, что, когда того требуют обстоятельства, надо сделать два шага назад, чтобы потом сделать шаг вперед. Не случайно, что большим успехом у советского руководства пользовалась пьеса М. Шатрова, в которой как раз и идет речь о ленинском отступлении при подписании Брестского мира, названного им „похабным”, вынужденным, но на который он пошел с тем, чтобы, поступившись малым, спасти главное — свою власть, которая и перешла по наследству к тем, кто ныне, в свою очередь, пытался спасти ленинское наследие.
Частью этого наследия, которое каждый преемник первого вождя пополнял по мере своих сил, стал и стратегический паритет с США. Не объяснив, почему Советскому Союзу надо было его обязательно добиваться, проповедник „нового мышления”, приняв как должное это вполне устраивавшее его достижение застойного брежневского времени, мимоходом заметил, что „гонка вооружений не могла не сказаться на социально-экономическом развитии страны”, которое ранее уже было им охарактеризовано как катастрофическое.
После этого советским гражданам самим предоставлялось искать ответа на вопрос: „Если в гонку вооружений были втянуты обе стороны, почему только одна оказалась на краю катастрофы? Почему только советская система вынуждена была признать, что пушечный паритет лишил ее не только масла, но и хлеба?”
Заверив советских коммунистов в том, что, обратившись к Ленину, нынешнее советское руководство по-прежнему рассматривает международные отношения с классовой точки зрения, Горбачев тут же сказал, что в Кремле пришли к „выводу о приоритете общечеловеческих ценностей... нравственных ценностей, которые на протяжении столетий вырабатывались народами”. Это было откровенным признанием провала выработанной коммунистами новой морали, которую они на протяжении десятилетий вдалбливали в головы людей. Но словно торопясь опровергнуть только что сказанное, Горбачев принимается доказывать, что „мы были первыми во многих демократических начинаниях XX века”, „что именно в нашей стране родилась власть трудящихся”. Он не смущаясь провозглашает, что „на фундаменте октябрьской революции в нашей стране было построено внушительное здание гарантированных прав гражданина во многих областях”. Но почему же тогда, имея такие гарантированные права и располагая полнотой власти в стране, трудящиеся миллионами ссылались в лагеря и расстреливались этой самой „им принадлежащей” властью? Или это было осуществлено по их просьбе, в интересах их собственного государства и светлого будущего? Такое заявление генсека вызывало, по меньшей мере, недоумение, тем более, что сам он в том же докладе заявил, что „существующая политическая система оказалась неспособной предохранить нас от застойных явлений”.