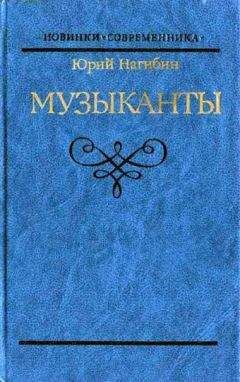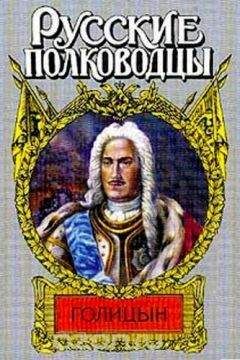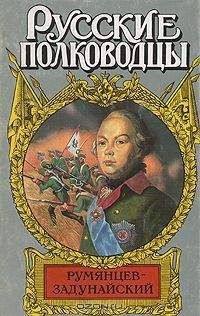Наталья Павлищева - Злая Москва. От Юрия Долгорукого до Батыева нашествия (сборник)
– Неможется, господин? – спросил участливо Пургас.
Василько присел и потянул подол кожуха Пургаса вниз. Пургас сел. Они смотрели друг на друга, холоп и господин, недавно еще так далеко стоявшие друг от друга на крутой и высокой житейской лестнице и теперь посаженные татарами и случаем рядком на мосту.
Застывший лик Василька содрогнулся, уголки рта опустились, придав его лицу жалобный и плаксивый вид. Он хотел что-то сказать, но лишь беззвучно раскрывал рот, затем кашлянул раз-другой, его теплое дыхание коснулось лица Пургаса.
– Пургас, – наконец произнес Василько, – опять бесовское наваждение посетило меня. – Он говорил с надрывом; его расширенные очи так впились в Пургаса, что холопу стало не по себе.
– Устал ты, лечь тебе надобно, – пролепетал Пургас первое, что пришло ему на ум. Ему не люба была эта странная беседа; татары уже на вал взобрались, крестьяне недобро косятся, а тут еще выслушивай страсти и трясцою исходи. Он был бы рад покинуть Василька и в меру своих сил угостить неприятеля березовой или сосновой кашей либо варом, но уйти без повода не решался.
– Давеча пошел я на задний двор Тарокана искать Янку, – продолжил Василько нетвердым голосом, – а там, в клети, лежит умерший, которого мы с тобой видели в придорожном храме. Помнишь, из Владимира в село в последний раз ехали.
Пургас никак не мог припомнить, когда они видели в храме у Владимирской дороги упокойника. Он почувствовал разочарование в Васильке. Ведь был же господин удалым и хоробрым витязем, а сейчас, будто дитя малое, ищет утешения, пугается какого-то призрачного упокойника, когда их сейчас в граде не перечесть. Да и полно им сидеть и обретаться в пустословии, когда татары уже на валу и слышно, как глухо лепятся к стене их лестницы.
– Вару! Вару несите! – кричал неподалеку охрипшим голосом Дрон. – Все ли на месте?.. Топоры! Топоры!.. Только разом!.. Скажу, тогда бей!
– Вару несите! – разносились по стене требовательные выкрики крестьян.
– Замаялись мы, нам бы подмогу! – жаловалась утомленная подносчица.
– Давай котел! Вишь, татарин повалил! – оборвал женку какой-то крестьянин. Послышался шум выливаемой из котла воды, и пахнуло паром. Затем визжащий и скрипевший под ногами крестьян мост дрогнул от упавшего тела.
– Робята, Мину стрелой вдарило! Да он уже не дышит! – послышалась речь сердобольного крестьянина.
– Почему не бьешься? А ну подними топор, песий сын! – раздался злой и грубый окрик.
– Навались! – выкрикнул Дрон, и тут же послышался частый и согласный перестук топоров. – Навались! – повторно прокричал Дрон, и за пыхтением, руганью крестьян раздались треск, грохот и многие вопли.
Длинный, в две связи, весь утыканный с одной стороны впившимися в него стрелами замет (наращенный поверх стены крестьянами ночью) полетел вниз. Он, круто изгибаясь, необузданно играя своими размашистыми краями и сбивая нараставшей тяжестью преграды, вонзился в вал и поднял белесую пыль.
Ветер, ранее разбивавшийся о замет, теперь хлестал по головам Василька и Пургаса. Совсем близко над ними замелькали стрелы. Сидеть далее Пургасу было невмочь, он поднялся и, морщась, оттого что задел израненную руку, побежал в стрельню.
Встал и Василько. Но не так скоро, как холоп, а неохотно и тяжело. Ранее он, на зависть товарищей, мгновенно обнажал меч, теперь же рука его не сразу нашла рукоять оружия и сам меч показался донельзя тяжелым.
Он посмотрел вниз и отшатнулся. И вал, и ров, и берег реки, и сама река, и низменная снежная равнина за рекой – все было покрыто движущимися и кричавшими татарами. Васильку сделалось совсем тоскливо. И некому было излить печаль: Пургас убежал, исчезла Янка, куда-то подевался Федор, крестьяне поведали ему, что люди Воробья убили Павшу.
Исхитростная задумка крестьян лишь придержала первые ряды приступающих; подпираемые сзади бесчисленными толпами, они с еще большим рвением полезли на стену. Замелькали в воздухе топоры крестьян, пар от варева заклубился над мостом и на время закрыл взбиравшихся татар. Сквозь шум приступа едва слышался печальный звон колоколов.
К Васильку подбежал Дрон и остановился так близко, что его заиндевелая борода касалась кольчуги Василька. Он тронул молодца за рукав и прокричал на ухо:
– Нужно женок из хором погнать на прясло! Иначе не осилим! Видишь, какая силища прет!
Василько едва успел кивнуть головой, как Дрон нетерпеливо сорвался с места и побежал к лестнице. «Зачем все это? Если и отобьемся, то все едино татарин залезет на стену у Наугольной либо с напольной стороны», – подивился Василько безрассудному упрямству старосты.
Василько все находился под впечатлением так поразившего видения. Злой приступ не притупил его душевных мук, но даже сделал их еще сильнее.
Он чувствовал лихорадочное жжение внизу живота. Его душа сжималась от предчувствия скорой погибели и толкала на любые действия, дабы избежать смерти. Потому ему не стоялось на месте. Хотелось сговориться с кем-то, сообща подумать о себе, но крестьяне не подходили для того, они были обречены, на их разгоряченных лицах Василько усматривал печать скорых предсмертных мук.
Он торопливо заходил по стене. Что-то говорил, наказывал, советовал. Но делал это не столько потому, что считал нужным, а для того, чтобы оправдать свое присутствие на прясле.
Татары все настойчивей лезли на стену. Лестницы их накрепко впивались в верха стены. Над пряслом плыл со стороны Наугольной черный клубившийся дым.
Толпой, как-то по-домашнему мирно, пугливо поглядывая на Заречье, на мосту появились женки, пригнанные Дроном из хором Тарокана. Пока они приглядывались, примеривались, потеряли несколько товарок. Дрон стал разводить их по пряслу. Сермяги и кожухи до пят, плотно обвязанные повоем лица, и пальцы, слабые тонкие и багровые от мороза, к крови непривычные. Как-то покорно, молчаливо и обыденно принялись женки за тяжкую опасную работу – только их лица выражали телесные и душевные страдания. Лишь короткий полустон-полукрик передавал смертельную боль – и падет женка, неся в хрупком теле стрелу, предназначенную крепкому и дородному мужу, а в образовавшемся просвете в цепочке защитников прясла появится на месте пораженной женки робкое чадо и подгоняемое окриком Дрона или Василька будет вместе со взрослыми метать вниз пудовые каменья либо лить кипяток на татарские головы…
К закату татары так и не забрались на кремлевские стены. Мороз к ночи усилился. Тела побитых ворогов быстро коченели, низвергнутая со стен вода, замерзая, превращала горы трупов в горбатившиеся ледяные глыбы. С Напольной стороны, где особенно докучал неприятель, удалая дружина князя полегла почти вся, но ворога на прясла не пустила.
Ночь незаметно для москвичей навалилась на Кремль. Вокруг израненного города зажглось множество костров. Отдыха осажденным не было. Татары еще чаще стали кидать в стены каменья, они вплотную подтащили к Владимирским воротам вежу и под ее прикрытием стали бить в ворота пороками. Подле Наугольной зачадил и вспыхнул злым огнем двор. Тушить огни было некому.
Глава 74
«Завтра нам в животе не быть», – думал Филипп, подъезжая к Тайницкой стрельне. Он только что побывал на пряслах с напольной стороны и не мог забыть положенных скорбным рядом на снегу убиенных молодцев из княжьей дружины. Все они были как на подбор крепки и ликом светлы, еще днем он слышал их молодческие голоса, а ныне уста их навсегда сомкнуты. Трижды они скидывали поганых со стены, но и сами не убереглись.
Защищать стены более некем, на иных пряслах дети заменили побитых отцов, старших братьев и матерей. Сам князь Владимир бился вместе со своей дворней у Боровицких ворот и, сказывали, стрелам не кланялся.
Все же участь Москвы была предрешена; еще приступ – повыбьют всех мужей; еще ноченьку покидают камни татары – завалится стена подле Наугольной.
– Ведомо ли тебе, что твои люди Воробья убили? – воевода смотрел в упор на Василька.
– Ведомо, – буркнул Василько. Он отворотил лицо и сделал вид, что рассматривает Заречье.
Они стояли на стене, выделяясь среди худо одетых защитников прясла своими коваными одеяниями. Лунный свет тускло освещал лужи крови на мосту. Гул татарского стана и грохот от ударов каменьев о стену напрочь забивали приглушенные речи находящихся на прясле крестьян.
– Пьяному чернецу потакаешь? – насмешливо допытывался воевода.
Василько недовольно и шумно засопел. Он не понимал, отчего воевода спрашивает об убиении Воробья, когда Москва может не дотянуть до утра.
– Дался тебе этот Воробей! – грубо ответил он. – Помысли лучше о себе.
– Негожее речешь, – обиделся воевода.
Василько уловил в его голосе неуверенность. Будто Филипп пенял ему скорее по привычке, но держал на уме что-то очень важное.
Филипп тронул бережно руку Василька, как бы давая понять, что все сказанное им ранее – пустое. Он посмотрел по сторонам и, убедившись, что подле нет крестьян, рек доверительно: