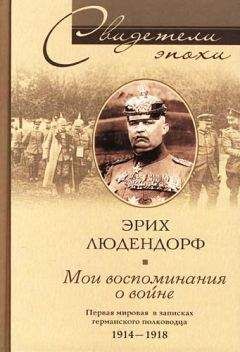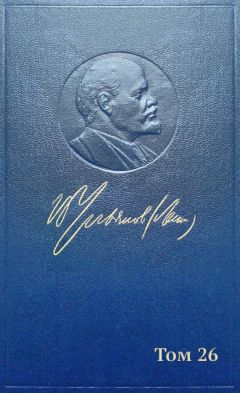Генрик Сенкевич - Огнем и мечом (пер. Владимир Высоцкий)
Памятный вторник 13 июля прошел в лихорадочных приготовлениях с обеих сторон. Уже не подлежало сомнению, что будет штурм, так как в лагере казаков литавры и барабаны били тревогу с утра, а у татар гудел как гром большой священный барабан, так называемый "балт"… Вечер был тихий, погожий, только с обоих прудов и Гнезны поднялся легкий туман, наконец на небе замерцала первая звезда.
В эту минуту раздался залп шестидесяти казацких пушек, несметные полчиша двинулись со страшным криком к валам, и начался штурм.
Войска стояли в окопах, и им казалось, что земля дрожит под их ногами; даже самые старые солдаты не помнили ничего подобного.
— Господи Христе! Что это такое? — спросил Заглоба, стоя возле Скшетуского и его гусар в промежутке между валами. — Это не люди идут на нас…
— Вы угадали, это не люди, неприятель гонит перед собой волов!
Старый шляхтич покраснел, как свекла, глаза у него вылезли на лоб, а с губ сорвалось одно только слово, в котором было все бешенство, весь страх и все, что он мог чувствовать в эту минуту:
— Мерзавцы!
Волы, погоняемые дикими, полунагими чабанами, которые били их горящими факелами, одичавшие от страха, бежали как бешеные вперед со страшным ревом, то сбиваясь в кучу, то разбегаясь или поворачивая назад, но под ударами и под пулями снова бросались к валам. Вурцель открыл огонь, все заволокло дымом; небо покраснело; скот в ужасе рассыпался во все стороны, точно его разогнали молнии, половина пала, — а по трупам волов неприятель шел дальше.
Впереди — под ударами пик сзади и под огнем самопалов — бежали пленные с мешками песка, которым они должны были засыпать ров. Это были крестьяне из окрестностей Збаража, которые не успели скрыться в город перед нашествием, тут были и молодые мужчины, и старцы, и женщины. Все они бежали с криком, с плачем, простирая руки к небу и умоляя о пощаде. Волосы поднимались дыбом от этого воя, но сострадания не было тогда на земле: с одной стороны казацкие пики поражали их в спину, с другой — ядра Вурцеля попадали в несчастных, картечь рвала их на части. И вот они бежали, скользили в крови, падали, поднимались и опять бежали, так как их толкала волна казаков, волна турок, волна татар…
Крепостной ров тотчас наполнился трупами, кровью, мешками с песком — и неприятель через него с воем бросился к валам.
Полки теснились одни за другими; при вспышках пушечного огня можно было видеть старшин, гнавших буздыганами на валы все новые отряды. Отборнейшие воины кинулись на позицию, занимаемую войсками князя Еремии, так как Хмельницкий знал, что там сопротивление будет сильнее всего. Шли сечевые курени, за ними страшные переяславцы, под начальством Лободы, за ними Воронченко вел черкасский полк, Кулак — харьковский, Нечай — брацлавский, Степка — уманский, Мрозовский — корсунский; шли и кальничане, и мощный белоцерковский полк — в пятнадцать тысяч человек, — а с ним сам Хмельницкий — в огне, красный, как сатана, смело подставлявший свою широкую грудь под пули, с лицом льва, со взглядом орла — в хаосе, в суматохе, среди резни и вихря — внимательно за всем наблюдавший и всем руководивший.
За украинцами шли дикие донские казаки, за ними черкесцы, сражавшиеся ножами, тут же Тугай-бей вел отборных ногайцев, за ними Субагази — белгородских татар, Курдлук — смуглых астраханцев, вооруженных огромными луками и стрелами, из которых каждая по величине почти равнялась дротику. Все они шли густой сплошной массой.
Сколько их пало, прежде чем они дошли наконец до рва, заваленного трупами пленных, — кто расскажет, кто воспоет? Но все же дошли, перешли и стали карабкаться на валы. Казалось, будто эта звездная ночь — ночь Страшного суда. Пушки, которые не могли поражать ближайших, поражали огнем дальние ряды. Гранаты, описывая в воздухе огненные дуги, летели с адским хохотом, превращая ночь в ясный день. Немецкая и польская пехота, а возле них княжеские драгуны стреляли в казаков прямо в упор.
Первые их ряды хотели было отступать, но не могли и умирали на месте. Кровь брызгала под ногами наступающих. Валы стали скользкими, — скользили ноги, руки. А они все карабкались, окутанные дымом, черные от сажи, пренебрегая ранами и смертью. Местами уже сражались холодным оружием. Виднелись люди, словно обезумевшие от бешенства, с оскаленными зубами, с залитым кровью лицом… Живые сражались на вздрагивающей массе умирающих. Уж не было слышно команды, а лишь общий страшный крик, в котором исчезало все: и треск выстрелов, и хрипение умирающих, и стоны раненых, и шипение гранат.
И продолжалась эта страшная, беспощадная борьба целые часы. Вокруг крепостного вала образовался другой вал из трупов и преграждал дорогу штурмующим. Сечевых изрубили чуть ли не до одного человека. Переяславский полк погиб и лежал грудой около вала, от харьковского, брацлавского и уманского полков осталась только десятая часть, но другие все шли вперед, толкаемые сзади гетманской гвардией, румелийскими турками и урумбейскими татарами. В рядах нападающих уже начиналось замешательство, между тем как польская пехота, немцы и драгуны не уступили еще ни одной пяди земли… Обливаясь потом и кровью, охваченные пылом битвы, почти обезумевшие от запаха крови, они рвались к неприятелю так же, как разъяренные волки рвутся к стаду овец.
В эту минуту Хмельницкий сделал вторичный натиск с остатками первых полков, и со всей еще не тронутой силой белоцерковцев, татарами, турками и черкесами.
Пушки в окопах уже не гремели, гранаты не свистели, слышалось только бряцание холодного оружия вдоль всей линии западного вала. Замолкли и выстрелы. Тьма покрыла сражающихся.
Уже нельзя было рассмотреть, что там происходит: что-то клубилось во мраке, словно судорожно вздрагивающее тело какого-то чудовища. Даже по крикам нельзя было угадать, звучит ли в них торжество или отчаяние. Порой и они умолкали, и тогда слышался только гигантский стон, раздающийся со всех сторон, из-под земли, на земле, в воздухе и все выше, выше, точно души улетали со стоном от места этого побоища.
Но это были только краткие перерывы; после них крики и вой возобновлялись с еще большей силой и становились все более хриплыми, все более нечеловеческими.
Вдруг снова загремел треск ружей. Это Махницкий с остатками пехоты шел на помощь истомленным полкам. В задних рядах казаков заиграли отбой.
Настал перерыв, казацкие полки отступили от окопов и остановились под прикрытием своих пушек. Но не прошло и получаса как Хмельницкий снова метнулся и в третий раз погнал их на штурм.
Но тогда на валу появился сам князь Ерема верхом на коне. Его легко можно было узнать, так как над ним развевались знамя и гетманский бунчук, а перед ним и за ним несли горящие кровавым светом факелы. Неприятель тотчас стал стрелять в него из пушек, но неопытные пушкари перебрасывали ядра далеко, за речку Гнезну, а он стоял спокойно и смотрел на приближающиеся тучи.
Казаки замедлили шаг, как бы очарованные этим зрелищем.
— Ерема! Ерема! — точно шум ветра, пронеслось в рядах.
И стоя на валу, в кровавом свете, этот грозный князь казался им каким-то сказочным великаном, и потому дрожь пробежала по их истомленным членам, а руки творили крестное знамение.
Он все стоял.
Махнул золотой булавой, и тотчас зловещая стая гранат зашумела в воздухе и врезалась в ряды наступающего неприятеля, ряды скорчились, как смертельно раненный дракон; крик ужаса пронесся с одного фланга до другого.
— Бегом! Бегом! — раздались голоса казацких полковников.
Черная лавина хлынула к валам, под которыми она могла найти прикрытие от гранат, но не успела пробежать еще и половины пути, как князь, все время стоявший на виду у всех, повернулся к западу и опять взмахнул золотой булавой.
По этому знаку со стороны пруда, из промежутка между его гладью и окопами, стала выступать кавалерия и в одно мгновение разлилась по всей равнине; при свете гранат можно было отлично видеть огромные полки гусар Скшетуского и Зацвилиховского, драгун Кушеля и Володыевского и княжеских татар под командой Растворовского. За ними выступали еще полки княжеских казаков и валахов под командой Быховца. Не только Хмельницкий, но и последний казак понял в эту минуту, что дерзкий вождь ляхов решил бросить всю кавалерию во фланг неприятеля.
Тотчас в рядах казаков был дан сигнал к отступлению. "Грудью к кавалерии! Грудью к кавалерии!" — раздались испуганные голоса. В то же время Хмельницкий старался изменить фронт своих войск и прикрыться кавалерией от кавалерии. Но было уже поздно. Прежде чем он успел перестроить свои войска, княжеские полки понеслись с криком "бей, убивай!" точно на крыльях, с шумом, свистом и железным лязгом. Гусары врезались копьями в ряды неприятеля и точно буря опрокидывали и разбивали все на своем пути. Никакая человеческая сила, ни один вождь не мог уже удержать на месте пехотных полков, на которые обрушился первый натиск крылатых гусар. Дикая паника охватила отборную гетманскую гвардию. Белоцерковцы кидали самопалы, пищали, пики, сабли и, закрывая головы руками, с звериным ревом бежали на стоявшие в тылу отряды татар. Но татары встретили их тучей стрел, тогда они кинулись в сторону и бежали вдоль линии обоза, под огнем пехоты и артиллерии Вурцеля, устилая трупами поле.