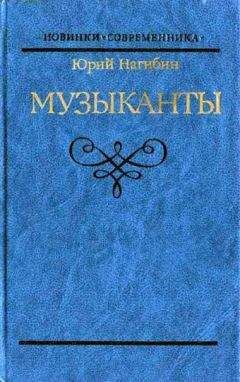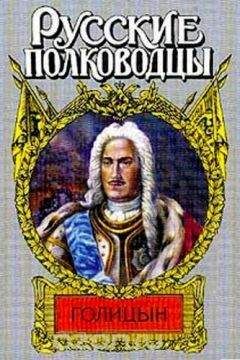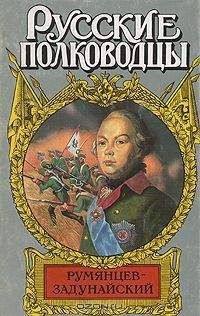Наталья Павлищева - Злая Москва. От Юрия Долгорукого до Батыева нашествия (сборник)
Хозяйка оборотилась неожиданно скоро. Она резко распахнула дверь, замерла на пороге, посмотрела на Матрену, на Оленьку, на своих проснувшихся детей, на внутреннее убранство избы так шало и непонимающе, как будто ожидала увидеть другую избу и иных людей. Затем нетвердым шагом прошла на середину избы, еще раз осмотрелась, внезапно всплеснула руками, вцепилась себе в волосы и заголосила: «Убили! Осиротели!» И побледнела, повалилась на пол.
Матрена кое-как подошла к лежавшей без движения хозяйке, наказала дочери принести воды и побрызгала ею лицо упавшей. Хозяйка открыла очи – Матрена помогла ей подняться.
Хозяйка прискорбно заговорила о том, что вчера вечером убили ее мужа и что она видела лежавшее на снегу подле городской стены его окровавленное тело. Матрена уложила хозяйку на лавку, на которой промучилась сама несколько дней. Она не удивлялась тому, что ее движения становятся уверенней; не столько собственные хвори занимали ее сознание, сколько желание утешить и помочь, а также особенно остро нахлынувшая тревога за судьбу Саввы.
Хозяйка никак не могла забыться. Сквозь рыдания то и дело жаловалась, что муж был убит вчера, а она о том не ведала, и даже сердце ее не подсказало о приключившемся всего в двухстах саженях от нее несчастье, что он был раздет и разут, и даже сыновья не помогли поведать ей, кто же из осажденных сотворил над родным человеком такой грех. Еще хозяйка поведала, как много мужей исстреляно на стенах.
Каждое ее слово так больно ранило Матрену, будто хозяйка говорила не о незнакомых и малознакомых побитых москвичах, а о Савве, Оницифоре и брате. За переживаниями и хлопотами Матрена напрочь забыла о собственном недуге. Если бы не ощущение слабости в ногах, она бы совсем почувствовала себя здоровой.
Глава 71
Матрена, решив, что внезапное исцеление есть промысел Божий, засобиралась к мужу. Олюшке наказала ухаживать в свое отсутствие за хозяйкой и ее детьми. Она взяла с собой немного окорока, хлеба и покинула избу, стараясь не смотреть на молчаливо и, казалось, обиженно наблюдавшую за ее сборами хозяйку.
Когда Матрена вышла во двор, ей в лицо ударил студеный, перемешанный с едким запахом гари воздух. Она остановилась, перемогая слабость. Через двор, а затем по узкой улочке, зажатой с двух сторон глухими частоколами, шла медленно, ступала с опаской. И все думала о муже.
Она все сильнее чувствовала себя виноватой перед Саввой. Если бы муж сейчас внезапно оказался перед ней, Матрена была бы готова на коленях просить у него прощения.
«А если поганые исстреляли Савву?» – мелькнула в сознании жуткая мысль. Может, он сейчас страдает от боли, мучается, что одинок и нет подле родного человека, который бы утешил, перевязал рану, накормил, да завидует тем израненным, подле которых находятся близкие. Матрене стало так невыносимо горько, что она внушила себе: подобного с Саввой не может произойти, ведь Господь уже наказал ее сверх меры.
И размечталась Матрена, как подойдет к Наугольной и непременно встретит какого-нибудь соседа, который обязательно справится, отчего она долго не приходила, и поведает, что Савва уже заждался ее, а затем укажет, где поискать мужа. Савва не подаст вида, что пообижен, примется расспрашивать об Олюшке, о ее хворях, но в его речах и в выражении лица нет-нет, а проскользнет недовольство. Чем ближе Матрена подходила к Наугольной, тем отчетливей до ее слуха доносились звуки осадных работ.
Ей даже показалось, что она подходит не к знакомой с детства городской стене, а к каменоломне, в которой находятся множество работников, непрерывно бьющих по каменьям тяжелыми молотами, – эти звуки заставляли Матрену тревожиться за судьбу мужа и его товарищей.
Она вздрогнула, увидев впившуюся в сугроб стрелу, и скорее не разумом, а сердцем почувствовала, что это есть первый замеченный ею татарский гостинец, предназначенный не только ратникам, но и ей, и ее близким. Она жила себе и не ведала, что татары куют эти стрелы в мрачных и дымных кузницах; она ломала голову над тем, как бы оженить сына, а незнаемые и дикие языцы загодя помышляли разорить ее родное гнездо; она печаловалась о дочери, а похотливые степняки уже предвкушали встречу со светлоокими женками и девами; она временами сердилась на Савву, а там, за высокими горами и бескрайними густыми лесами, помышляли, когда и как им будет сподручней погубить его. Эта невеселая догадка породила в Матрене осознание слабости и уязвимости ее мира, казавшегося совсем недавно таким непоколебимым. Она посмотрела на татарскую стрелу как на дьявольское творение, перекрестилась и чуть ли не побежала от нее.
Ее внимание привлек наполовину сожженный тын подворья, и особо – пролом в нем, в котором виднелся убитый муж, лежавший на боку, спиной к пролому – немного согнутая в локте рука его пугающе и предупреждающе указывала на небо.
Изумляло и настораживало множество расколотых горшков, чьи черепки буквально усеяли улочку, по которой она шла. Иногда Матрена видела, как над ней и в стороне пролетали горшки, и слышала треск от их падения. Она пугалась, крестилась, и шаг ее становился осмотрительным.
Все чаще попадались разбитые и сожженные постройки. Вера, что все будет хорошо, которую Матрена ранее настойчиво внушала себе, почти покинула женку.
Вскоре ей открылось пространство перед Наугольной, и Матрена остановилась как вкопанная, потрясенная увиденным. Она ранее не часто, но бывала у Наугольной и хорошо помнила и саму стрельню, и круто изогнутую около нее городскую стену, и сторожевую клеть подле стрельни, и другие ближайшие к ней строения; и если не рассчитывала увидеть все эти постройки в целости, то надеялась, что нанесенный татарами разор не будет большим.
Возглас изумления невольно вырвался из уст Матрены. Если бы не сама стрельня, все так же поражавшая своей высотой и мощным основанием, то она бы не узнала этого места.
Сторожевой клети не было более; вместо нее беспорядочное нагромождение обугленных бревен и жердей и гнетущий дух паленого мяса. Все открытое пространство между Матреной и стрельней завалено огромными каменьями, битыми черепками, утыкано стрелами; все здесь дымилось и исторгало трепещущие язычки огня. Дым от них и от костров, ярко горевших подле стены, нависал над стрельней, вызывая у Матрены невольное сравнение с преисподней. Сквозь дым просматривались люди, движения которых казались такими безрассудными и вялыми, что Матрена решила: перед ней находятся обреченные люди, знающие, что их ожидает, но не покидавшие стены от безысходности либо повинуясь какой-то жестокой силе.
Матрена пошла к Наугольной не прямым путем, а вдоль городской стены, оберегаясь от стрел, горшков, а также от каменьев, непрерывно залетавших в город и падавших на открытое пространство перед стрельней. Она ощущала боязнь и с трудом сдерживалась, чтобы не убежать подалее от этого мрачного места.
Постепенно кто-то незримый стал настойчиво внушать ей, что с Саввой непременно случилась беда. Хотелось спросить защитников стрельни: «Где мой муж? Куда же вы его подевали?», но у них были такие усталые и озабоченные лица, что Матрена не решалась на расспросы.
Ее настораживало то, что она не встречала знакомых. «Куда же подевались посадские?» – недоумевала Матрена, ведавшая, что на пряслах, примыкавших к Угловой, с начала осады сидели жители московского посада, которых она знала. В ее сознании не укладывалась истина, что почти все они повыбиты. Она набралась смелости и стала расспрашивать о муже. Ратники либо равнодушно пожимали плечами, либо отмахивались. Отчаявшись и чувствуя, как стынет сердце, Матрена принялась искать Савву среди убитых. Они лежали там, где их застал злой татарский гостинец. От того, что не было привычного скорбного и смиренного почтения перед сложившими головы христианами, Матрене было особенно горестно рассматривать убиенных.
Внезапная насильственная смерть была страшна, отталкивала и удручала и застывшей предсмертной судорогой на лице, и неестественной неподвижностью, и видом смерзшейся крови, и скрюченными, странно раскиданными конечностями.
Тяжко достались Матрене эти скорбные смотрины, особенно когда видела еще юных отроков, женок, убранных сединами, и молодых посадских, с которыми еще недавно здравствовалась. Почти все почившие были исстреляны, только несколько человек побиты каменьями; лежат во снегу, и некому поплакать над ними, принарядить в последнюю дороженьку. Здесь им снег – мать сыра земля, а впившаяся в тело стрела – посмертное ожерелье, вместо скорбного плача – непрерывное буханье в стены, и грохот, и скрип, и ругань, и стоны, и дуновение ветра через зияющий пролом в стене. Она узнавала среди погибших немало посадских, но не находила среди них Савву.
– Почто убиенных побросали в небрежении? – не выдержав, Матрена попеняла ратникам.
– Монахи еще вчера носили убитых в одно место, но к вечеру и их татары постреляли, – ответил ей усталый молодой ратник в панцире и в шеломе.