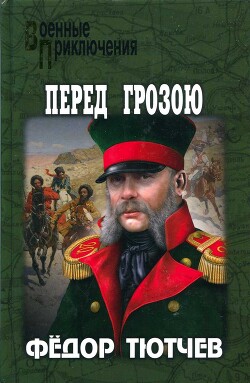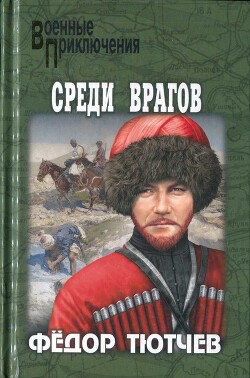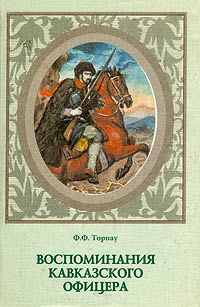На скалах и долинах Дагестана. Герои и фанатики - Тютев Фёдор Фёдорович Федор Федорович
Солнце встало на полдень, когда Спиридов, Зина, Николай-бек и Маммед остановились на левом берегу реки Койсу в виду крепости Угрюмой, до которой оставалось не более двух верст.
— Ну, Николай-бек, спасибо вам, — с искренним чувством сказал Спиридов, крепко пожимая руку Николай-бека, — большое, большое спасибо.
— Не на чем, — скромно отвечал тот, — моя заслуга невелика, всякий кунак из горцев сделал бы то же. Я рад, что нам все так хорошо удалось. Ну, прощайте, увидимся ли когда-нибудь?
— Неизвестно. Ведь вы скоро в Турцию уедете?
— Да, думаю.
— Поезжайте. Мне было бы, признаться, очень тяжело опять увидеть вас в рядах наших врагов.
— Ну, этого, бог даст, не будет, я решил не сражаться против русских.
— Тогда вам тем паче надо скорее уезжать, иначе вы рискуете навлечь на себя вражду Шамиля.
— А плевать я хочу на него! — сердито воскликнул Николай-бек. — Не очень-то он мне страшен…
— Ну, однако, не скажите, Шамиль может быть для вас очень опасным. Не понимаю, чего вам тянуть время, поезжайте скорей в Турцию, от души советую. Ведь вас здесь ничто не держит.
— То-то и дело, что держит, — вполголоса проговорил Николай-бек, не глядя в глаза Спиридову.
— Держит? — удивился тот. — Что же это такое?
— Сказать?
— Скажите, конечно.
Николай-бек замялся, очевидно, не решаясь высказаться. По лицу его скользнуло неопределенное выражение, он нахмурился и, наклонясь с седла, тихо произнес:
— Камень под Ашильтами, вот что меня держит.
Спиридов понял, про какой камень намекал Николай-бек. Камень, под которым была схоронена Дуня. Он слышал еще раньше от Николай-бека о его посещении этого камня, и еще тогда был немного удивлен подобной сентиментальностью со стороны такого человека, каким являлся Николай-бек, совершивший на своем веку немало жестоких и свирепых подвигов.
«Да, человеческая душа удивительный инструмент, — подумал Спиридов, — и едва ли найдется мудрец, который бы вполне разгадал ее».
С минуту длилось тяжелое молчание.
Спиридов и Николай-бек задумчиво глядели друг на друга, как бы ища слов для выражения того, что накопилось на душе у каждого из них, искали и не нашли.
— Ну, однако, прощайте, вам пора, — первый очнулся Николай-бек. — Прощайте, Зинаида Аркадьевна, — повернулся он к Зине, — не поминайте лихом.
— За что же? Напротив, я вам многим обязана; благодарю вас от всего сердца, — возразила Зина, протягивая руку. — Прощайте, желаю вам всего лучшего.
— Пожелайте смерти мне: это лучшее, что можно мне пожелать теперь, — усмехнулся Николай-бек и, повернув коня к стоявшему немного в стороне Маммеду, веселым тоном крикнул ему по-чеченски: — Прощай, кунак, будь здоров!
— И ты также, — отвечал Маммед, — да хранят тебя великие пророки Магомет и Исса [16].
Все время, пока Спиридов, Зина и ехавший впереди всех Маммед переправлялись на ту сторону, Николай-бек оставался на берегу.
Выпрямившись на седле, он пристально и задумчиво глядел на виднеющуюся вдали крепость, и грустное облако бродило по его лицу. Наконец он глубоко вздохнул, повернул коня и, потупив голову, медленно поехал прочь, обратно в горы, угрюмо смотревшие на него своими каменными, немыми очами.
Никогда в жизни еще не было на душе Николай-бека так пусто и печально, как в эту минуту.
Конь точно разделял состояние духа своего всадника и шел, понурив голову, неторопливым, но скорым шагом.
Когда, отъехав от берега с полверсты, Спиридов оглянулся, Николай-бека на его месте не было. Его высокая косматая папаха на мгновенье мелькнула за поворотом тропинки и исчезла.
— Хороший человек, — неожиданно произнес Маммед, — очень хороший, только скоро помирать будет.
— Ты откуда знаешь? — изумился Спиридов.
— Глазам видать. Когда человек надо помирать, у него глазам такой бывает — особый глазам. У Николай-бека такой глазам, Николай-бек скоро помирать, — с непоколебимой уверенностью подтвердил Маммед.
Спиридов усмехнулся.
— Ишь ты, пророк какой, — проворчал он и пустил лошадей рысью.
Через несколько минут все трое уже въезжали в ворота крепости Угрюмой.
Зина облегченно вздохнула.
Теперь её младенец мог плакать и кричать сколько ему угодно.
Колосов прибыл в город почти одновременно с возвращением генерала Фези из Кубанского похода, завершившего временное покорение мятежных племен. Впрочем, на этот раз успех главным образом достигнут был не русскими войсками, которые, будучи заняты разгромом шамилевских полчищ, не могли вовремя прибыть к осажденному городу Кубу, а ширванской конной милицией, посланной в числе десяти сотен выручать кубинский гарнизон, едва-едва державшийся. Вступив в Кубанскую область, ширванцы принялись грабить, не отличая мирных от немирных, жечь аулы и захватывать имущество. Весть о их грозном нашествии очень скоро достигла до скопищ, осаждавших Кубу, которые, не теряя минуты, поспешили снять осаду [17] и устремились на спасение своего имущества и семейств от алчности милиционеров.
С усмирением Кубанской области военные действия прекратились. Разбитый в нескольких сражениях, потерявший лучших своих мюридов, Шамиль ушел в глубь страны и совершенно затих. Очевидно, он желал, чтобы русские на время забыли о его существовании, и это до некоторой степени удалось ему.
Не являясь нигде лично и не становясь во главе новых полчищ, Шамиль тем временем очень ловко и хитро возмущал народ против русской власти, стращая его, будто русские хотят обратить всех мусульман в христианство и переселить в Россию, а на их место водворить казаков. От природы чрезвычайно легковерные, горцы слушали все эти нелепые басни и при каждом удобном и неудобном случае восставали против русской власти. Для усмирения этих восстаний из крепости Внезапной, Темир-Хан-Шуры и других выслали отряды, которые жестоко наказывали бунтовщиков, жгли и разрушали аулы, уничтожали посевы и стада, и тем окончательно разоряли жителей. Такими действиями думали устрашить жителей, но в действительности достигли совершенно обратных результатов. Лишенные крова и имущества, разоренные до нитки жители поневоле должны были выезжать с насиженных мест и уходить в горы, причем для прокормления себя и семейств в их распоряжении оставался один ресурс — грабеж и война.
Колосову вскоре пришлось принять участие во многих набегах, предпринимавшихся с карательной целью, но особенно памятным остался для него набег на большой аул Миятлы. Аул Миятлы был один из самых беспокойных. Надеясь на неприступность своих твердынь, миятлинцы очень мало боялись русских и то и дело предпринимали далекие и смелые набеги, угрожая нашим сообщениям между Хунзахом и Внезапной, с одной стороны, и тем же Хунзахом и Темир-Хан-Шурой — с другой. Их пример заразительно действовал на другие аулы, охотно подражавшие им.
Несколько эмиссаров Шамиля безвыездно проживали в Миятлях и оттуда руководили волнениями всей области. Необходимо было так или иначе унять ми-ятлинцев, и вот 17 октября 1838 года сильный отряд в составе трех батальонов Кабардинского и одного батальона Куринского полков при 12 орудиях и пяти сотнях казаков выступил из крепости Внезапной по направлению к аулу Миятлы.
Среди офицеров и солдат шли оживленные разговоры о предстоящем деле, которое, по мнению всех, обещало быть жарким.
Колосов, шагавший по краю дороги, равнодушно прислушивался к раздававшейся вокруг него болтовне, не принимая в ней никакого участия. С тех пор как он попал в отряд, он сделался душою гораздо спокойнее. Таким образом, предсказание Панкратьева оправдалось, но только отчасти. Не видя Ани и княгини, Иван Макарович не ощущал всей остроты тех чувств, какие мучили его, когда он жил в штаб-квартире. Теперь он не терзался ни угрызениями совести перед Аней и ее отцом, ни теми смутными желаниями, которые возбудила в нем Елена Владимировна, одним своим присутствием болезненно раздражая его нервы. Вместо всего этого им овладела тупая, холодная апатия и полное равнодушие к жизни. Он словно решил предложенную ею задачу и нашел, что дальше ему нечего ждать. Это состояние духа делало его совершенно нечувствительным к страху, и он очень скоро прослыл примерным храбрецом.