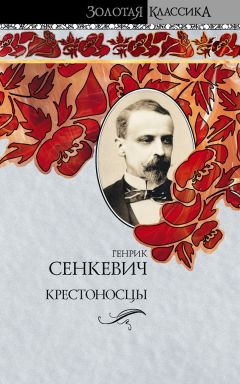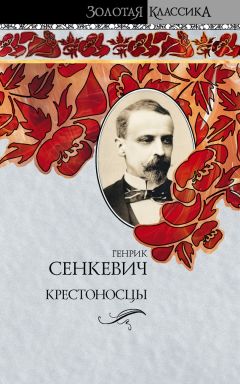Абраша Ротенберг - Последнее письмо из Москвы
Когда пароход подходил к пристани и взошло солнце, стали видны очертания порта. Далекий горизонт обрел контуры, он распался на дома, улицы, людей. Лица, лица, человеческие лица. Определенность раскрыла шлюзы для радости. Пассажиры заговорили между собой, но тихо, будто боялись разбудить спящий город.
Внизу, на пристани, собралась пестрая толпа, люди заняли проходы, приветственно махали руками. Это была бесформенная, неопределенная масса, как и толпящиеся на палубе пассажиры. Никто никого не узнавал.
Пароход медленно полз, не обращая внимания на наше всеобщее нетерпение. И я то и дело оглядывался на мать, вглядывался в ее напряженное, но довольное лицо. Я никак не мог взять себя в руки: необходимо было увидеть отца, узнать его, поехать в наш дом, поселиться в своей квартире.
Я все задавал и задавал ей один и тот же вопрос:
— Ты видишь его?
— Нет, я пока никого не вижу.
— А когда мы его увидим?
— Когда корабль подойдет поближе.
— Я хочу увидеть его прямо сейчас.
— Потерпи, мы уже близко.
— Хочу увидеть папу.
— Знаю, милый, знаю, еще немного.
— Сколько «немного»? Ты все время говоришь одно и то же.
— Но мне больше нечего тебе ответить.
— Хочу, чтоб мы уже приплыли.
— Знаю, знаю.
За этими вопросами скрывался избалованный, измученный дорогой и оттого невыносимый ребенок. Я только спустя годы это понял, а другим, вероятно, это было видно сразу, включая наших спутников, которые глядели на меня с удивлением и раздраженно наблюдали за моей непоседливостью и назойливостью. Когда я вспоминаю о тех событиях, мне становится грустно и еще — стыдно. Но никто не может изменить своего прошлого — только принять его, ретроспективно осознать и сделать соответствующие выводы. Но факты изменить невозможно. Мучения моей матери, которые я приумножал своим инфантильным эгоизмом в ответственные моменты ее жизни, сейчас вызывают у меня угрызения совести. Тогда мне недоставало сознательности, чтоб понять, что она тоже подавлена, что она еще более моего переживает из-за принятых решений и ответственности, которую мы оба должны были разделять. Или все мы, трое, потому что был еще один человек. Пока корабль медленно подходил к пристани, отец ждал нас, подавленный, неуверенный по поводу этой встречи с такими же незнакомыми, неизвестными людьми для него, каким сам он был для нас.
Громкоговорители сообщили, что можно сходить на сушу. До этого объявления мы, как ни старались, не могли разглядеть отца. Пришел ли он встретить нас? Воображение взяло верх, и я опять ясно представил себе, что он бросил нас.
— Папа знает, что мы прибыли на этом пароходе? — спросил я, будто из простого интереса.
Мать слегка улыбнулась.
— Думаешь, он забыл о нас?
— Просто я не вижу его…
— Не переживай. Мы не видим его, потому что народу слишком много. Сейчас он найдет нас.
— Ты уверена?
— Совершенно уверена.
Я заметил, что глаза ее были на мокром месте и голос дрожал.
Вдруг, совершенно ни с того ни с сего я пробормотал:
— Я так устал…
Затем она взяла меня за руку, сжала ее с таким усилием, будто навсегда хотела слиться со мной, и потащила к трапу. Впереди какие-то люди сходили на берег и направлялись к «Отелю иммигрантов». Мы прибыли в Буэнос-Айрес.
Земля!Несколько часов мы потратили на прохождение всех бюрократических процедур. В «Отеле иммигрантов» толпилась куча людей, рассчитывающих поскорее расправиться со всеми административными барьерами и занимающих все помещение. Там стоял страшный гвалт, который ухудшал и без того плохое взаимопонимание с чиновниками: те не знали языков, на которых говорило большинство приезжих. Они задавали вопросы, но их невозможно было понять, и на них невозможно было ответить при всем желании.
После прохождения контроля надо было забрать багаж, распаковать его, передать для досмотра и обработки — невыполнимая в таком хаосе задача. Когда все эти сложные действия были закончены, носильщик собрал тюки и понес их к единственному выходу. Мы последовали за ним, слушая, как всеобщий шум приближается вместе с толпой, которая осталась за решеткой, отделявшей прибывших. Мы подошли к выходу, полицейский отворил ее, и мы вышли наружу. Все было, как во сне, только еще и очень быстро. Я уже свыкся с мыслью, что нахожусь в Буэнос-Айресе. Толпа шумела и беспокоилась. Нам задавали какие-то неожиданные вопросы. Кроме того, я очень беспокоился, что нас никто не встречает. Мне было страшно, и я старался не задавать вопросов.
Вдруг из толпы вырвался какой-то человек и, не дав нам опомниться и признать его, будто ураган закружил мою мать в объятиях. Поскольку я стоял у нее за спиной, то прямо передо мной оказались его руки (и кисти рук), которыми он обнимал ее, и из-за плеча я мог хорошо разглядеть его лицо — мокрое от слез счастья. У меня не было сомнений в том, кто передо мной, но кое-что смущало меня: обе его руки были на месте, и на них не было ни следа увечий. Может, это был не мой отец, а кто-то еще, кто пришел встретить нас? Лицо походило на то, что я видел на фотографиях, но не руки. Что за чудо с ним произошло? Все прояснилось через несколько месяцев — я просто ошибся, увидел на снимке совсем не то: пальцы были затенены и оттого казались обрубками. Но, как я потом выяснил благодаря теории доктора Фрейда и Мелани Кляйн, «у меня просто была потребность ампутировать их». На кушетке у психоаналитика все обычно быстро проясняется.
Еще для меня стало неожиданностью его лицо — лицо, которое прижималось к материной шее и оценивающе разглядывало меня влажными ясными глазами. Эти несколько секунд глубоко ранили меня — я успел почувствовать, с какой неприязнью, почти отвращением он смотрел на меня. Я испугался и замер. Он не предпринял никакого движения в мою сторону. Я вспоминаю эту родительскую встречу так, будто был на ней посторонним наблюдателем. Через какое-то время отец, будто в замедленной съемке, ослабил объятия и с улыбкой наклонился ко мне. У меня внутри все похолодело, когда он обеими руками взялся за мое лицо и своими холодными губами поцеловал мою бритую голову. Я не мог пошевелиться, и потому этот его приветственный жест оставил без ответа.
Мать с улыбкой глядела на нас, на неподвижного меня, и спросила по-русски:
— Отчего не поцелуешь отца?
Отец подставил щеку, чтоб я поцеловал его. Я ощутил влажное и холодное прикосновение его кожи, хотя на дворе было жаркое утро. От его щек исходил какой-то едва уловимый запах. Я выполнил требование матери и инстинктивно отстранился.
— Что такое, у нас стеснительный сын? — попытался отшутиться отец; он говорил по-украински с кучей ошибок. Я вспомнил дядю Лейзера, который в шутку говаривал об одном своем безграмотном приятеле, что тот может сделать в слове «Ной» семь орфографических ошибок. Я механически поправил отца.
— Вот так надо говорить, — заявил я самоуверенно.
Мать тут же вмешалась:
— У тебя смышленый сын, — и попыталась улыбнуться.
Выразительно на меня поглядев, отец сказал ей в ответ на идиш что-то, чего я не понял. Я понимал, что сделал что-то не так, но не знал, как это исправить.
Носильщик вместе с поклажей ожидал неподалеку. Отец снабдил его какими-то инструкциями, и мы направились к группе людей, стоявшей поблизости: к паре взрослых и двоим детям, семье старшего брата моего отца. Я почти сразу их узнал. Дядя, крепкий мужчина с серьезным лицом, и его жена, невысокая пухлая женщина с короткой стрижкой и натянутой улыбкой, внимательно нас рассматривали, пока мы приближались. Они так между собой переговаривались, будто перемывали нам косточки. Мне показалось, что они смотрели на нас высокомерно или даже с презрением. Мои кузины, которые были старше меня, рассматривали нас так, будто они энтомологи и наблюдают за Грегором Замзой злосчастным утром его превращения. Мать в своем старомодном советском платье и я в костюме бразильского матросика с головой, обритой на теофипольский манер, были для них экзотическими персонажами, материалом, достойным отвращения.
Полагаю, спартанская черствость была для них единственной формой семейных чувств, поскольку никто из них не позволил себе никакого эмоционального проявления по отношению к нам — они даже не улыбнулись из простой вежливости. Все лишь что-то неразборчиво и недовольно пробормотали в знак приветствия.
Казалось, мы герои какого-то немого кино; общение между нами было ограничено из-за языкового барьера: дядя и тетя изъяснялись на идиш и едва говорили на русском или украинском, кузины говорили в основном по-испански или на идиш, отец говорил на идиш и немного по-русски или по-украински, моя мать свободно говорила только на двух последних, а идиш знала совсем немного.
Я же знал только русский и украинский. Общение с отцом, таким образом, было сильно ограничено, а с кузинами и вовсе невозможно.