Алексей Чапыгин - Гулящие люди
Домрачей, пощипывая струны, напевал:
Понедельник – он бездельник,
День я пролежала-а…
А во вторник-межидворник
Сто снопов нажала-а…
Уж я в середу возила.
В четверг молотила-а…
Во субботу мерила,
В барыши не верила-а!
В воскресенье продала,
Все до гроша пропила-а,
Зелено вино пила,
Буду еще пить.
Била мужа старого,
Буду еще бить!
Растопырив дерюжинный кафтан, держа руки сзади под кафтаном, рыжий мужик похвалил домрачея:
– Вот это ладная песня! Только в одном лжет старой, что баба била мужа.
Проплыли село Мордово. Через шесть верст караван встал близ горы Ахматовой на отдых. Все собрались в кружок на носу, кто сел на чурбан, а кто и прямо на палубу. Наум сказал:
– Вдали опять рели чернеют, все атамана Разина работнички.
Рыжий, сидя на чурбане, расправляя заскочившую кверху красную рубаху, косясь на виселицы, покрестился, ответил Науму:
– А ты, кашевар, не гляди, а гряди и не суди; висят – значит, отработали. Скажи, о горе этой што слыхал?
– Слыхал, хозяин, я от стариков, был на горе город татарской, хан Ахмат сидел в ем, промышлял разбоем. Юрьи-двое их, воеводы, клятой Борятинской да Долгорукой с Казани, – тут нынче кровью землю поливают, мекают, красной мак произрастет. Перевешали на релях народную волю, а то много на сей горе удалых хоронилось.
– Пущай лучше домрачей сказку скажет, а ты пожди! Эй, песельник! Играть не хошь, солги чего, мы послухаем.
Домрачей сел, подогнул под себя ступни:
– Ну, так чуйте! Жил богатей, – заговорил старик хриповатым голосом.
– Немало их! Примерно, наш Васька Шорин, гость, на Камереке все пристани за ним, – подтвердил рыжий.
– Богатей, браты, и едва лишь на небе заря проглянет, а на дворе богатея бой, крик и плач идет! Воют кабальные люди, бьют их слуги богатея по ногам палками.
– Тоже, я смыслю, не веселая будет твоя сказка, – вставил слово рыжий.
– Чур, не мешать! Он же, богатей, поглаживая бороду, с крыльца глас испущает: «Робята, бейте их, да с ног не сбивайте, лентяев немало, собьете с ног – ляжет, платить не будет и работать тоже».
– Хитрой, вишь!
– Худо спит богатей! Снятся воры – в окно лезут, а раз, браты мои, пришла сама Скалозубка – смерть, значит. Молвила: «Много ты народу обидел, да не подумал, что скоро приду, вытряхну из тебя душу, как пыль из мешка!»
Спужался Скалозубки богатей и до свету рано пошел к баальнице, дал ей денег много ли мало и сон поведал.
Баальница отыскала ему корешок да наказала: «Сунь корешок в калиту спереди и в лес поди заповедной, а выстанет тот лес перед тобой, как пойдешь… поди зимой, ночью, когда падера снег вьет по сугробам. Корешок тебе путь укажет, а в лесу выстанет поляна, на ней негла[396] стоит, а под неглой ключ бьет. У ключа сторож, и ты того сторожа сговори да испей той воды – и смерти тогда не бойся». Избрал богатей вьюжную ночь, повязал калиту с корешком. Как повязал, то и лес увидал и тропу в него. Лес сумрачной, филин кричит, волки воют, дрожит богатей– зверя боится, а сам пущий зверь!
Все слушали молча, только Сенька побил кресалом на трут и. закурил да рыжий, отмахиваясь от табачного дыма, ворчал:
– И где ты, парень, проклятую табун-траву берешь?
– Звезды над лесом будто лампадки от ветра мотаются, зыряют и светят пуще месяца. Наглядел поляну богатей и неглу, в небо сучьями уперлась, а у матки тоя деревины, хребтом привалясь, стоит великан великий. В десной руке шелепуга с рост человека. Сам весь синей от ночного снегу, в бороде до коленей ледяные сосули на ветру позванивают. У ног великана великого из огня меледит серебром ручеек и в снег уходит…
– Не сварить ли, спаси Микола, нам каши, – сказал Наум, – вишь, побасень долгая, поди все есть захотели?
Сказочник замолчал, пережидая, что другие скажут, но никто Науму не ответил.
– Воззрился богатей на великана великого и увидал: очи ти стража воды живой замкнуты-темной он. Тут богатей окорач встал да ползью ползти удумал: «Изопью-де воды живой, не узрит». А великан ему шелепугой путь заломил и возговорил тако: «Вода моя от смерти пасет, едино лишь пить ее тому человеку, кой мозоли на руках имет. Тем, у кого пясть в мозолях от зепи с золотом, таковым воду мою пить не можно – утроба каменеет. Дай твою пясть щупать, каков ты есте человек?»
Спужался богатей, побег из лесу к дороге и корешок кинул, а как кинул путевой корень, тут ему и лес заповедной невидим стал.
– Скаредная твоя сказка, старик! – сказал рыжий. – Нам, мизинным людям[397], без богатеев и робить нечего…
– Купил я, хозяин, даром и продаю, паси богородица, ни за грош… не нравитца кому, тот не слухает!
– Эй, Наум, дедко, вари кашу– едим да спим!
Утром погребли рано, а по берегу рели, и на них по два, по три разинца повешены…
– Обрадовались дьявола! Русь повесят – на калмыках пахать будут, – проворчал домрачей и, настроив домру, хриповатым голосом запел:
Недолго калики думу думали,
Пошли ко городу ко Киеву.
А и будут в городе Киеве,
Середи двора княженецкого.
Клюки-посоха в землю потыкали,
А и сумочки исповесили,
Да подсумочья рыта бархата,
Скричат калики зычным голосом —
С теремов верхи повалилися,
А с горниц охлопья попадали,
В погребах питья всколебалися.
Становились калики во единый круг…
Не доезжая Камышина пяти верст, караван, идущий близко берега, обогнал богатый струг. На мачте развевался флаг с образом Спаса. Палуба с кормы до половины струга была покрыта яркими коврами. Края ковров свешивались за борта струга. В гребях сидели стрельцы, по бортам стояли стрельцы в кафтанах мясного цвета приказа головы Александрова.
На корме, в глубоком кресле с тростью в руке, сидел, видимо, воевода, в малиновом бархатном кафтане, в шапке шлыком, на бархатном красном шлыке шапки белели жемчуга. Воевода что-то сказал негромко, гребцы подняли весла. Струг придвинулся ближе к идущим насадам.
Стрелецкий сотник помахал вынутой сверкнувшей на солнце саблей и крикнул головному насаду:
– Куда-а? Чьи люди-и?!
Рыжий мужик, наскоро запахнув кафтан, сняв шапку, ответил:
– Тарханные, служилой, московского гостя Василья Шорина с рыбна села наемные-е!
– Куда-а и с чем?!
– В Астрахань, служи-ло-ой, за государевой царевой и великого князя Алексия Михайловича ры-бо-й!
– До-о-бро! Плавь-те-е!
Гребцы на струге опустили весла, и струг опять быстро поплыл.
– Зримо, на смену Милославскому боярину? Тот плыл мимо Саратова на многих стругах со стрельцы, песни играли весело, а этот, вишь, молчит, должно Борятинской… – сказал старик Наум.
– Глазами туп стал? – ответил рыжий, снова распахивая кафтан, и, надевая шапку, прибавил: – Начальника Разбойного приказу не узнал – наместника Костромского.
– Ужли Одоевский князь?
– Ен! Яков Микитич. Скуластой и долгой, по жидкой бороде вижу. Эй, на-д-дай, това-ры-щи-и!
У Камышенки остоялись. На берегу торчало шесть релей, повешено двенадцать разинцев.
– Навстрет мне все батьки-атамана работнички! Спасибо и то им не скажешь… – сказал домрачей.
– Прощай и с такими словами убирайся в лодку! – крикнул рыжий.
– Ухожу! Тебя-то, лисый, не жаль кинуть, а вот обчего сынка обнять надо. Прости-ко, Гришенька. – Старик обнял Сеньку.
– Прощай, дедушко. Видаться ли?
– Где уж, сынок! Путь наш один, да росстаней много. Наум, привычно закинув бороду на плечо, поцеловал уходившего:
– Не поминай, спаси Микола, лихом! Звал иножды козлом, забудь, то не от сердца было…
– Прости, Наумушко. Пути розны, а то бы еще почудасили. Рыжему старик поклонился, сказал:
– Спасибо, хозяин, за корм и плавь!
– Поди с богом.
Домрачей, сняв с лысой головы баранью шапку, помахал ею судовым ярыгам.
– Работнички, прощайте!
– Про-ща-а-й, деду-шко-о! – закричали ярыги ближние и дальные.
Старик, взяв с палубы под мышку домру, спустился в лодку.
– Разбойной, зрю я, старец был, – вздохнул рыжий.
Летом 1671 года царя несказанно обрадовали матерые низовики-донцы – атаман Корнило Яковлев с товарищи. Они, как драгоценную кладь, привезли в Москву на земской двор царскую грозу – Разина. После казни «друга голытьбы» царь стал крепче спать. К нему теперь ежедневно шли грамоты от главных воевод Юрия Борятинского и Долгорукого. Тот и другой, не сговариваясь, менялись местами по Волге и за Волгой. То с правой стороны один, то с левой другой, и обратно, смотря ио сакмам[398] – куда прошли преследуемые ими мужики, холопы и посадские гилевщики.
Как один, так и другой Юрий поочередно доходили почти до Уральских гор, а на запад и юг до Бела-города, где сидел Григорий князь Ромодановский. Дальше воеводы Ромодановского не шли – им было указано: «В чужие дела не вступаться». Воеводы Борятинской и Долгорукой, а также подручные им стрелецкие головы разбивали бунтовские засеки, жгли деревни ушедших на гиль мужиков, равняли с землей становища татар и немирных калмыков, гнали мордву и чувашей, четвертовали, вешали, сажали на кол. Царь знал, читая утешные грамоты воевод: «Не один-де Арзамас и Нижний Ломов, а многие городы текут не по один день кровяными ручьями».
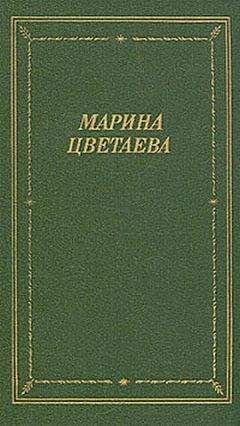

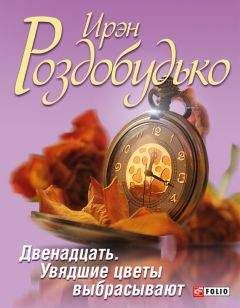
![Atlanta - Только рядом...[СИ]](/uploads/posts/books/2640/2640.jpg)